А. Ник и поэзия ленинградского андеграунда
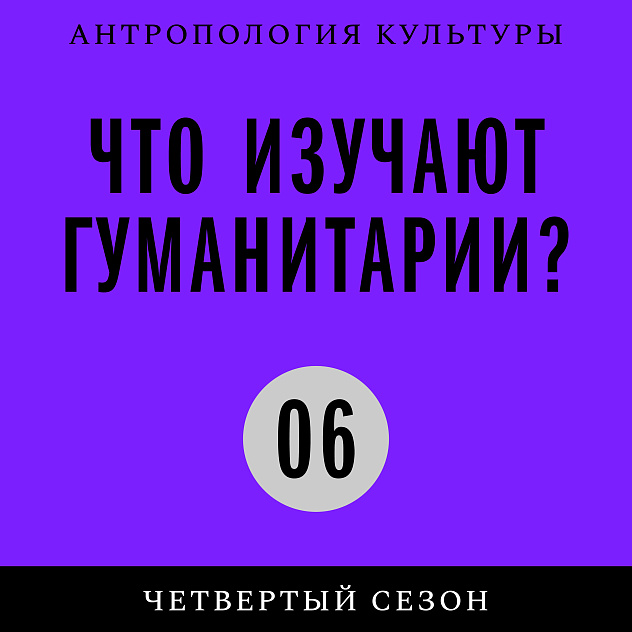
Подкаст ведет: Александр Скидан.
В гостях: Пётр Казарновский.
Мы говорим о творчестве А. Ника в контексте ленинградского андеграунда 60х-70х годов, о маргинальности и обращенности к малому кругу единомышленников как художественной стратегии, о жестовой и визуальной составляющей его творчества, а также о том, почему отказ от утверждения и ориентация на «недооформленное» и недовысказанное слово была центральной для художественной стратегии А. Ника.
Поводом для разговора послужила статья Петра Казарновского «„Вибрация слов”: Осмысление творческой маргинальности А. Ника» (Новое литературное обозрение, №187).


- 00:00:16 Тема и гость выпуска
- 00:02:23 О фигуре А. Ника
- 00:08:24 О перформативности в текстах А. Ника
- 00:15:45 Гость читает стихи А. Ника
- 00:25:10 О мотиве сна
- 00:26:58 Отказ от утверждения как художественная программа
- 00:31:05 О контакте А. Ника с другими русскими эмигрантами
- 00:33:40 Обэриутский контекст ленинградского андеграунда
- 00:35:33 Стихи А. Ника
- 00:43:25 Минимализм А. Ника
→ Читать полностью
Александр Скидан: Дорогие слушатели, добрый вечер, сегодня с вами Александр Скидан. Мы продолжаем разговор о неконвенциональной, нетривиальной поэзии. Я уже говорил о том, что в 187-м номере “Нового литературного обозрения”, майском, вышло несколько материалов в тематическом блоке “От андеграунда к акционизму”, посвященных такого рода поэзии и литературе в целом. Иногда эта литература и поэзия на грани невербального жеста существуют, на грани вербального текста, переходящего границы вербального и заходящего на территорию хэппенинга, перформанса. Сегодня у нас продолжение в некотором смысле этого разговора, который мы начали с Михаилом Павловцом и с Германом Лукомниковым. И в гостях у нас сегодня Петр Казарновский - поэт, критик, исследователь неофициальной ленинградской поэзии и литературы, в частности, Леонида Аронзона. В 187-м номере он напечатал статью об очень любопытной фигуре, можно сказать, дважды или даже трижды маргинальной относительно довольно-таки маргинальной неофициальной культуры Ленинграда, вообще советского андеграунда, андеграунда советской эпохи, потому что ленинградский андеграунд был маргинальным, скажем, по отношению к московскому нонконформизму, а уж внутри неофициальной ленинградской культуры существование такого маргинала, как А. Ник (творческий псевдоним Николая Аксельрода), тем более заманчивая, интригующая тема. И об А. Нике мы сегодня как раз с Петром Казарновским и поговорим. Петр, добрый день, рад тебя приветствовать.
Петр Казарновский: Добрый день, Александр, я тоже рад тебя приветствовать. Здравствуйте. Давайте поговорим об А. Нике.
Александр Скидан: Статья Петра Казарновского называется «“Вибрация слов”: осмысление творческой маргинальности А. Ника». То есть сразу, уже в названии, Петр, можно сказать, берет быка за рога. Давайте начнем. Действительно, когда я готовился к нашей сегодняшней встрече, я подумал, что даже слушатели и читатели, которые знакомы с неофициальной ленинградской культурой, которые, может быть, слышали о поэтах Малой Садовой, о хеленуктах, трансфуристах, журнале «Транспонанс», редакторами которого были Ры Никонова и Сергей Сигей, а в этом журнале А. Ник печатался с 1980-го по 85-й годы, тем не менее едва ли знают, кроме самых общих каких-то вещей, что-нибудь об А. Нике, о Николае Аксельроде. Петр, давай начнем просто с экспозиции, с рассказа о том, что это за фигура, что за поэт, прозаик, художник. Как он вообще возник?
Петр Казарновский: Следует начать, наверное, с дня рождения. Родился А. Ник в 1945 году, т.е. он как бы дитя Победы, и он уже юношей закончил фотоучилище, они там учились на одном курсе с Борисом Кудряковым, и поскольку А. Ник, видимо, по здоровью не служил в армии, у него были последствия полиомиелита, в детстве перенесенного, он хромал всю жизнь, он не ходил в армию, в отличие от своего сокурсника, тут же, когда вернулся на гражданку, попал на Малую Садовую, в статье, кажется, приводятся какие-то его, из интервью Дмитрия Пиликина, его какие-то воспоминания, впечатления о том, какое на него это произвело воздействие, и туда потекли рядами, сначала туда попал А. Ник, потом он привел туда своего младшего двоюродного брата, это уже конец 60-х, начало 70-х годов. К тому времени А. Ник проработал в фотоателье, он увлекался джазом, он ходил в какую-то секцию при Дворце культуры имени Ленсовета, где, в общем, как-то происходило ознакомление молодёжи с этой, в общем, пробивающей себе дорогу культурой.
Ну, разумеется, с попаданием на Малую Садовую сильно расширялся такой интеллектуальный горизонт, помимо всего того, что давало живое общение, о чём много, ну, сравнительно много было уже написано в томе Юлии Валиевой о “Сайгоне”, там целый раздел посвящен Малой Садовой, можно получить представление о том, как там проходила жизнь. Конечно, он там сталкивается с Эрлем, и у них завязывается очень нежная дружба, судя по воспоминаниям, они очень трепетно друг к другу относились, и А. Ник сразу стал писать какие-то тексты. Об этих текстах разные есть мнения. О тех самых ранних Кузьминский, например, в "Голубой лагуне" не очень лицеприятно отзывается, говорит, что так писали все тогда. Наверное, из этого, как бы вот месива, да, и названа “Вибрация слов”, вот эта моя статья, то есть, наверное, это какая-то основа, слова-то вибрируют и вне наблюдающего и в нём самом, и как-то А. Ник, видимо, всю свою жизнь, связанную со словом, потом он как-то ушёл в более изобразительное, о чём я чуть позже скажу, изобразительное искусство, он как-то вот дрейфовал на этих волнах, на волнах этой вибрации, усваивая что-то, что казалось ему вызывающим необходимый отклик, или наоборот, что-то такое, что можно было бы превратить в какую-то, как ты и сказал, перформативность, да, такой акционизм почти, иногда просто текст его может представлять собой описание какой-то маленькой акции внутри какого-то небольшого сообщества, например.
Да, или небольшого сообщества, я попытаюсь стихотворение одно продемонстрировать, тем более, что у этого стихотворения есть какая-то подкладка, да, в общем, мы можем находить какие-то аналогии в мире искусства, так скажем, и там я упущу какие-то факты, может быть, мелкие, да, то есть это вращение всё время в среде художников-литераторов, это посещение вот этой знаменитой выставки в Кустарном переулке в мастерской Владимира Овчинникова, художника, да, это общение с людьми разного возраста, которые свободно вот в той ситуации малосадовского братства, они как бы вот делились вне зависимости от своего, ну, с позволения сказать, уровня, да, вот в этой такой, в общем, странной советской лестнице иерархической, вот, а тут как бы вот, видимо, воспитанное, воспринятое А. Ником пренебрежение к какой-либо иерархии, оно как бы вот и осталось, да, и потом уже, живя вне Советского Союза, дело в том, что в 1972 году А. Ник женится на чешке, в общем, на Зденке, уезжает в 1973 году в Прагу, у него рождаются дочери, и он поддерживает все время связь с ленинградцами, с Эрлем, с братом Борисом Ванталовым, Борисом Констриктором, собственно, тем самым Борисом, которого он привел сам на Малую Садовую и который впоследствии станет так же, как он сам, постоянным сотрудником журнала "Транспонанс".
Александр Скидан: Петр, я хотел бы вернуться на секундочку к Малой Садовой, чтобы не упустить этот, мне кажется, конститутивный момент, очень важный и для этой территории, и для сообщества. Все-таки по воспоминаниям мы сегодня знаем, по воспоминаниям участников круга поэтов Малой Садовой, что зачастую перформанс или хэппенинг возникали как некое продолжение образа жизни людей прямо в этом кафе на Малой Садовой или чуть-чуть за его пределами, на Манежной площади, в садике рядом, и чтение текстов, или какие-то разговоры, вот они уже все были на грани, собственно, какой-то акции, какого-то хэппенинга. Как это вообще в текстах поэтических А. Ника присутствует и присутствуют ли? Потому что я в твоей статье для себя, например, отметил такую важную вещь, как некоторая недоосуществленность, которая стала как будто программным принципом всех его текстов и вообще, может быть, жизнетворческой стратегией. Очень многие его рассказы о снах и письма в Ленинград к Эрлю, к Борису Ванталову-Констриктору несут в себе узнаваемый элемент, скажем, обэриутского такого абсурдизма, где очень много сдвинутых, переформатированных реалий узнаваемых. Например, совершенно потрясающий текст ты цитируешь про то, как можно спать стоя, это абсолютно хармсовский текст. Я бы хотел, чтобы ты рассказал о том, как этот элемент перформативности или хэппенинга присутствует и делает тексты А. Ника своеобычными.
Петр Казарновский: Ответить, конечно, кратко не получится. И я думаю, что здесь несколько таких важных основ, что ли. Во-первых, изначально все-таки тексты предназначались узкому кругу. И сейчас мы можем понять, что тексты способны существовать вне рассчитанности на этот узкий круг. То есть, наверное, я не исключаю, что представители этого круга в этих текстах могли видеть больше, чем мы, или иное, нежели мы. Возможно, эти тексты, и это очень часто, да, вот у него есть замечательный текст, который, ну, нельзя сказать пародирует, но он как бы одергивает эту знаменитую песню "Я люблю тебя жизнь", да, "Я люблю тебя жизнь. Я люблю тебя секс, Я люблю тебя мясо". Ну, то есть, это такой вызов, и это уже, в общем-то, перформанс, да, это такая там мини-акция.
Там, да, вот и известен текст такой, он много в разных антологиях приводился, состоит из одной строчки, и более того, в этой строчке повторяется одно и то же всем знакомое словосочетание, всем петербуржцам знакомое словосочетание "Апраксин двор, Апраксин двор" – это восклицание, да, это, в общем, ну, что это может быть? Человек проходит мимо Апраксина двора, и он как бы ведет экскурсию, да, и сразу все взгляды на него, и, ну, вот такая вот форма, да, наверное. Кроме того, вот ты упомянул, вот, Катценгоф, да, как назвал его Эрль, этот садик, который теперь уже совершенно имеет другой облик, в него упирается Малая Садовая, да, это между Зимним стадионом и жилым домом, там когда-то стояла эта скульптура "Эдипов комплекс", там мать с детьми, да, и, в общем, под кустиками там выпивалась бутылка портвейна, я так полагаю, там выкуривался косяк, и, в общем, люди вели беседу, что-то, может быть, представляли, какие-то проектировали собственные действия, движения, которые, может быть, и не стоило бы так обнародовать, да, они были скрыты от суетной толпы на Невском, на, может быть, Манежной площади и так далее, в общем, они какой-то вели такой тихий, незаметный образ жизни, или выезжали в ближний пригород, где можно было, как вот на известных фотографиях Эрля с Эликом Богдановым, да, вот, ну такие, в общем, яркие какие-то сценки, видимо, разыгрывают, что-то такое есть от Бастера Китона там, вот эта вся какая-то культура, которая как бы и не стремится, я бы сказал, к тому, чтобы как-то держать позу в каком-то окружении большой аудитории, вот так.
Несмотря на какое-то громкое возглашение - “Апраксин двор” - это все равно, быть может, обращено к самому себе.
Я думаю, что вот это уединение, которое я почувствовал, я возвращаюсь все-таки к моменту, ну, так сказать, эмиграции, А. Ник все больше чувствовал, у него вот эта проективность его письма, она, я думаю, что это с горечью, добавляется туда горечь, и что добавляет то живое, что в его текстах есть, безусловно, да, это невыполнимость всех тех, да, вот у него есть цикл довольно большой цикл, прозаический, письма-проекты, то есть эти проекты никогда не могут быть воплощены, они существуют как нечто виртуальное.
Ты упомянул Хармса, одна история, она в небольшой заметке как-то мною описана и, ну, не то чтобы проанализирована, но это просто интересный факт, на каком-то тоже таком, так сказать, неофициальном салоне они там во дворе встречают какую-то немолодую даму, она спрашивает его, кто он, он говорит, я обэриут, а она ему так рукой говорит, а там внутри мой муж обэриут, и так происходит знакомство с Игорем Бахтеревым, вот это, в общем, это интересный факт, тем более, что Бахтерев печатался в журнале "Транспонанс", и я не помню лично, это надо спрашивать у Бориса Констриктора, был ли знаком лично А. Ник с Бахтеревым, скорее всего, да, поскольку он, живя уже в Праге, несколько раз приезжал и выступал здесь со стихами, и читал вместе с бывшими тогда здесь поэтами, близкими к журналу "Транспонанс", и в частности и с Эрлем, и, конечно, с Сигеем, который на тот момент был в Ленинграде, ну, и с Констриктором, разумеется.
Вот одно чтение, самое известное, пожалуй, оно происходило без А. Ника, за него читали то Сигей, то Эрль, и Эрль вообще для А. Ника, ну, очень значимая фигура, написан цикл большой “Сто писем к В.Э.", к Владимиру Эрлю, он не опубликован до сих пор полностью, ну, вот я надеюсь, что когда-нибудь это удастся сделать, потому что материалы все готовы. Ну, что еще можно сказать про А. Ника? Может быть, я прочту…
Александр Скидан: Отлично, да, я думаю, самое время. Ты уже все равно начал цитировать.
Петр Казарновский: Да. Ну, вот я попытаюсь прочитать стихотворение А. Ника раннее, это начало самое 70-х годов, дело в том, что при его участии Владимиром Эрлем в 74-м году была выпущена книга, она называлась "Первая. Книга. Стихов", это издательство "Польза", самодеятельное, так сказать, самостоятельное издательство, организованное Эрлем, где он печатал разных авторов. И вот стихотворение оттуда, оно такое, в общем, фигуративное, и оно заставляет вспомнить стихи Александра Миронова ранние "Я перестал лгать", это стихотворение Миронова:
гать
ать
ть
ь!
Я стал непроизносим.
Что-то подобное делает и А. Ник: "Бегством плена / избежал, / избежал, / убежал, / из плена / убежал..."
Конечно, это эксперимент, но вот это важный мотив бегства, он время от времени как бы всколыхивается, то есть он пытается его не столько осмыслить, сколько, может быть, как-то обыграть, может быть, снять то напряжение, которое, видимо, у него возникало, потому что на поездку, на отъезд в Чехию, видимо, он возлагал какие-то надежды. Они во многом не оправдались, ему не удалось там толком вписаться в закрытую и, возможно, несколько с подозрением смотрящую на выходца из Советского Союза представителя, в общем, такой же богемы, хотя он очень много узнал о чешском авангарде. И вот я прочту ещё несколько стихотворений, ранних в основном. Вот такое стихотворение тоже вошло в первую книгу, и оно потом было опубликовано Эрлем в книге "Хеленуктизм", это уже начало девяностых. И тоже тут вот важно то, что здесь повторы. Для А. Ника он не боится повторять в одном стихотворении, очень коротком, повторять или синтаксические конструкции, или какие-то слова, или целые какие-то блоки слов. "Страх перед борщом, / ужас перед борщом, / жуть одним словом, / жрать одним словом". Вообще еда для А. Ника, для его стихов, как и алкоголь, они выступают такими важными, может быть, акциообразующими компонентами. И при этом он себя все время как-то пытается позиционировать, понимая свою вот эту такую, ну что ли, с одной стороны, невовлеченность внешнюю, а с другой стороны, желание сказать свое слово. Вот Кузьминский в "Голубой лагуне" приводит такой короткий текст, и об этом надо сказать. На чем этот текст, возможно, построен, и строятся многие тексты: “Госпожа Бовари — это я, Аксельрод”. Вот казалось бы, да, это же такой Марсель Дюшан, потому что взят за основу какой-то известный, в данном случае, афоризм, и ему приписывается авторство, не имеющее ничего общего, ну, в данном случае, с Флобером, никакого отношения к Флоберу уже не имеющее.
Александр Скидан: А это какого года текст?
Петр Казарновский: Я думаю, что это начало 70-х. Вот точно я не могу сказать, к сожалению. Но вот я, поскольку упомянул имя Дюшана, я прочту еще одно стихотворение, это 76-й год точно. Оно было опубликовано впервые в “Митином журнале”, была публикация в середине 80-х годов, Эрль подборку небольшую составил:
"Надеть женское платьице, колготки, лакированные туфельки, какая прелесть! В таком наряде бежать по улице и нечаянно потерять туфельку, какая радость! Я золушка, думаете. Народ, увидев номер чернильный на пятке, скажет, вот еще одна из вытрезвителя возвращается с проспекта непокоренных, совсем как мужик, какая гадость!"
Помимо вот той ситуации, которая здесь проецируется, опять же, конечно, здесь хочется вспомнить мадам Рроз Селяви, это когда Мэн Рэй сфотографировал в женском обличии Дюшана. Я думаю, что здесь, знавший, конечно, этот контекст, А. Ник мог несознательно, пускай, как бы внести свою поправку. То есть это я, Аксельрод, это не Рроз Селяви, как бы этот текст сообщает. И потом, вот я процитировал вот эту пародию на советскую песню "Я люблю тебя, жизнь". Для А. Ника очень важно это чужое слово, где угодно услышанное или подобранное даже. Это может быть какой-то низовой слой бытующий, это может быть фольклор, у него очень много фольклорных каких-то аллюзий. Ну вот, например, стихотворение "Еж девица под окном скушал яблоко тайком". То есть тут какая-то всё равно присутствует такая веселая издевка.
Он играет какими-то, ну вот я говорил, словами-блоками. "Не было, не произошло, не случилось, всё по-старому". Или вот у него несколько стихотворений, где обыгрываются какие-то известные сюжеты классические. Вот стихотворение, посвященное Гоголю, это 1978 год. "Не спится портрету, он вылез из рамы И ходит по комнате в поисках мамы. Не спится и маме, она на подушку Роняет одну за другой филигранную стружку. Не спится поэту на ящике твердом, Дышать тяжело ему в воздухе спертом".
И еще один компонент текстов А. Ника – это такая странная комбинаторика, что ли. Он комбинирует внутри одного текста разные его части, и таким образом ломается привычный смысл. Я прочту стихотворение, оно, по-моему, было опубликовано еще и в "Транспонансе". Судя по реакции, по впечатлениям, по памяти о впечатлениях, Борис Констриктор как раз говорил, что оно вызвало в свое время просто чуть ли не шок.
"Тихо в углу сидит Маяковский, а за окном весна. Потухла внезапно папироса во рту у стриженного кота. На улице топот, на улице шум – это идет народ. Только в углу сидит Маяковский, к груди прижимая кота. Быть может, завтра раздастся выстрел, и полетят в потолок мозги кот облизнется, и подозрительно быстро будут умыты полы. Но пока в тихой комнате еще все четыре угла. В каждом из них сидит Маяковский, сжимая в зубах недокуренного кота".
Вот еще одно стихотворение, мне кажется, тоже такой компонент важный, наверное. Это попытка такого мета-размышления. Я хотел бы, может быть, этим и закончить сегодня чтение вообще. Но вот я прочитаю четверостишие. Оно, кроме всего прочего, вошло в подготовленную уже, страшно подумать, 16, по-моему, лет назад, книгу, которую издал Виктор Немтинов, один из хеленуктов, один из поэтов Малой Садовой. И Эрль издавал, и книгу "Хеленуктизм" он издал в свое время, еще при жизни у А. Ника вышла книга в Петербурге. Вот там это стихотворение есть. "Машинка пишет, буковки текут, слова не дышат, слезы не текут". Это ведь описание творческого акта, как его видит А. Ник. Да, это такой, мне кажется, важный момент избавления от, ну, что ли, каких-то болей, страхов, как сказать. Да, это, в общем, тоже, мне кажется, важно для него, потому что страшного там много. Вот ты упомянул о снах, Саша, и в снах, конечно, у А. Ника выразилось главное его видение мира, оно, так сказать, совершенно с точки зрения обыденного искаженное. Он видит мир сквозь призму сна, а не сон сквозь призму мира. Для него сон первичнее, чем явь, о чем сказано в одном стихотворении, которое, я надеюсь, сегодня тоже прочитать во второй, так сказать, во второй части, во втором блоке.
Александр Скидан: Меня очень сильно это упоминание сна стоя всколыхнуло. В этом даже не просто что-то тревожное есть, а пугающее. Пугающее, потому что я сразу вспомнил свои армейские сны стоя в коридоре перед медицинским осмотром, или в карауле, или еще что-то. Что-то кафкианское, хармсовское, очень пугающее, но с каким-то немножко подернутым, чуть-чуть нормализованным, если так можно сказать, абсурдом. То есть ты понимаешь, что во снах, естественно, все сдвинуто, смещено, и какие-то реалии до неузнаваемости преображены, но у него буквально это в двух строчках выражено, ну, такой советский экзистенциал страха, или даже не советский, а универсальный, универсалия авторитаризма, когда обстоятельства или другие люди заставляют тебя спать стоя, и сразу в этом есть и изнуренность, и страх, мы схватываем, да, вот это состояние страха, усталости, отчаяния, хотя они не названы и, в общем-то, не описаны. Мне кажется, очень много у А. Ника вот таких вещей как бы недосказанных, может быть, в этой недосказанности, недовоплощенности, которая является, на самом деле, конститутивной чертой его поэтики, в принципе отчасти и кроется причина его недореализованности в культурном контексте и что его знают гораздо хуже всех тех, чьи имена ты называл. Я вспоминал того же Бориса Кудрякова, Элика Богданова, не говоря уже об Эрле, которого, конечно, в первую очередь все знают как издателя.
Петр Казарновский: Да, и да, и нет, то есть я думаю, что мы в данном случае, это как бы такая особенность, вот эта недоговоренность, о которой ты совершенно справедливо говоришь, она, я думаю, что как-то так вот у А. Ника вышла. Думая о текстах многих малосадовцев, я замечаю, что у них есть вообще вот этот характерный очень... и у Эрля очень сильный, это отказ от утверждения. Это просто как бы невозможность что-то сказать наверняка. Это почти даже такая, усвоенная ими, почти, у Миронова, усвоенная ими как бы мистическая традиция. То есть здесь нельзя говорить что-то, как-то понять это, настаивать на этом, подавлять чье-то видение. Вот то, что ты, как ты воспринял этот текст про “спать стоя”, да, это интересно, но А. Ник, насколько я могу понять, он сам никогда не попадал в ситуацию, допустим, Советской армии, которую мы с тобой знаем. Я в строю спал, ну стоя, идя при этом. Да, то есть я знаю, что это такое. Он, в общем, он в каком-то смысле счастливо избежал очень больших потрясений еще в советское время. В советской стране, в Ленинграде был, я не помню, это 1972 год, это приезд Никсона, а может быть даже 1971, и всю такую на подозрении находящуюся публику отлавливали. И в течение нескольких дней, в течение нескольких ночей А. Ник прятался у знакомых художников, у художников в их мастерских. И это, в общем, как-то вот избавило его от столкновения, прямого столкновения, так скажем, с карательной системой. А потом, ну что там было в Праге, я думаю, что такого там с ним не было. Он, в общем, до начала 80-х годов, в общем, внешне выглядел как благополучный семьянин, потом семья, правда, развалилась, но у него был дом, он жил в отведенной ему небольшой, ну как, комнате, квартирке даже. А потом случилась перестройка, и он ездил сюда, да, до, кажется, 84-го года. С определенной периодичностью, я сказал четыре раза, может быть, даже больше. Вот, и есть фотографии, когда он здесь уже... Фотография известная с Эрлем его, когда он держит, А. Ник держит на руках маленькую девочку, видимо, гуляла поблизости, ее поймали. Такая, в общем, очень смешная, трогательная фотография, там три. Еще была жена запечатлена на фотографии Эрля Соня. Вот они втроем стоят, взрослые, три взрослых человека, в отдалении друг от друга, то есть там композиция, по-моему, да, точно, это Немтинов фотографировал. Но это такая очень яркая фотография. И вообще вот этот фотографический пласт, о котором уже шла речь, его проанализировать очень интересно. Это такой фильм, да, вот мы знаем про фильм, в котором принимал участие Довлатов, мы знаем, что Аронзон снимал какие-то микрофильмы. Но вот здесь это же, в общем, публика беднее, да, она, в общем, действительно из каких-то таких появилась прослоек, да, из каких-то таких, извините, щелей, очень далеких от любой формы, любого проявления искусства и так далее. Они в основном просто все бедные, и единственная возможность как-то запечатлеться, это, наверное, все-таки фотоаппарат. И этот образ, который на фотографии, он, ну, может быть, даже уговорит больше, чем если бы человека мы увидели в повседневном каком-то общении, что тоже, да, говорит о необходимости представить жизнь как что-то совершающееся, какой-то продолжительный такой акт. Может быть, это и важно. И всегда это особый тип говорения.
Александр Скидан: А скажи, что-нибудь известно о контактах с другими русскими эмигрантами в Чехословакии в 70–80-е? Не подружился ли в Праге, например, А. Ник с Виктором Пивоваровым? Нет? Они вообще не были знакомы?
Петр Казарновский: Да, мне ничего не известно. Я просто, если честно, не знаю. Но мне кажется, что в какой-то момент А. Ник почувствовал облом просто. Он хотел поступить там на филфак, он выучил же хорошо чешский язык. В итоге он же перешел вообще на чешский язык. У него есть несколько стихотворений, ну, мне известных по-чешски написанных. Хороших стихотворений. У него была проза по-чешски. У него довольно рано вообще стали проникать в его поэзию чехизмы. То есть он, так сказать, он там плотно очень как-то пропитался. И быстро. Этой средой. И вообще вот эта тяга к антиэстетизму, такое в чем-то дадаистское, оно как-то было подкреплено вот этим чешским воздухом, вот этой культурой, которая нам так частично известна. Он знал хорошо, кстати, чешский, да, я говорил, чешский авангард. Чешских сюрреалистов. Он просто пишет о том, что вот он Штырского книги читал. И, в общем, он был осведомлен. Там, возможно, он знал Ладислава Климу. Он ездил по разным местам еще с женой. Они ездили в разные... Йозефа Вахала посетили дом, где, в общем, много чего можно было увидеть. Да, и он даже переводил. Правда, мне не удалось найти, что это за текст. Он переводил Витезслава Незвала. Видимо, ранние тексты, еще сюрреалистической, так сказать, поры. И еще, да, ну вот я не знаю, мне кажется, что мы все-таки склонны какие-то вещи приписывать. А что касается “спать стоя”, у А. Ника есть в одном его тексте такая фантазия, вот как бы хорошо найти очки, с помощью которых можно было бы лучше разглядывать сны. Ну, это же тоже, да, в общем, ну тоже такое гротескное. Вот эти его вибрации, они, безусловно, ради того, чтобы скучное поле яви как-то расшевелить вот такими неожиданными высказываниями. Они могут быть самой разной продолжительности, что ли, протяженности.
Александр Скидан: А дневники Хармса были ли известны уже в конце 60-х годов? Могли их читать малосадовцы? То есть понятно, что рассказы, какие-то “Случаи” Хармса были уже известны, а именно его дневниковые записи, где много близкого нам и сегодня кошмарного, абсурдного, того, что в 60-е годы заново как бы переоткрывается. Неизвестно ничего точно?
Петр Казарновский: Точно неизвестно. Дело в том, что в какой-то случайной записи обнаружилось, в записи А. Ника обнаружилось, вот он говорит, что Эрль ему принес скопированный автограф Хармса, потому что Эрль уже начал, видимо, тогда, я боюсь, я затрудняюсь сказать, это, наверное, начало 70-х годов, начал тогда заниматься Хармсом. Про дневники просто... Я боюсь, что нет. Я боюсь, что какие-то случайные, может быть... Я думаю, что атмосфера была такая, и это можно было не читать дневников, а как-то уловить в этом осознании себя отщепенцем каким-то. Когда люди, смеясь, с такой усмешечкой кривоватой, сидя в этом самом садике Катценгоф, представить себе, что то, что происходит между ними, важнее, чем происходит в гораздо больших пространствах хотя бы того города, где они находятся. Какая-то такая грустная и вместе с тем издевательская над собой, скорее всего, даже в первую очередь такая мысль, такое подозрение.
Александр Скидан: И в качестве финальной коды, как у нас принято в подкастах, может быть, еще какая-то серия текстов А. Ника прозвучит?
Петр Казарновский: Да, с удовольствием я прочитаю несколько стихотворений. Они будут вразнобой. Вот раннее довольно стихотворение, 1972 год, замечательное.
"Ни директор школы, ни завуч, ни завхоз, ни преподаватели, ни сами ученики не подозревали. Никуда спешить не надо, все уже давно спят, уже давно спят, давно спят, спят".
Вот такое страшное стихотворение, 1975 год. У него есть своя, необходим комментарий. Видимо, в западной традиции существует такая вещь, как приобретение места на кладбище заблаговременное. И вот, реагируя, видимо, на такую вещь, на такую данность, А. Ник пишет: "Плевать на деньги, могила куплена. Какое счастье купить себе место на кладбище и почувствовать, что все, наконец-то, свободен". Вот стихотворение, которое, в общем, вполне можно, что я, по-моему, и сделал в статье, назвать как описание акции: "Стол опрокинут, спиртное на полу. Закусимте, друзья, приятного нам аппетита". Целый цикл образуется. Это не сознательно у А. Ника, а он все время обращается к своему городу. Он его любил, наверное, Петербургу. Ну, Ленинграда у него, пожалуй, что и нет. "Некогда красивые пейзажи Петербурга. Некогда пейзажи". Вот мне кажется, что здесь очень такой тонкий расчет на инерцию текста, потому что, если его развернуть, то получается, что "некогда красивые", "некогда пейзажи", "некогда Петербурга". Да, вот то, что повторяется первое и третье слова во второй строке, это, в общем, указание на эту развертываемость. Или вот замечательное одностишье. "Петербург – это город, где ужин остыл".
Вот еще. Это стихи из "Транспонанса" уже. Он посвящает тоже тут все на каком-то обыгрывании каких-то известных реалий. Стихотворение, посвященное Ры Никоновой. "Рука. Борозды. Вера. Холодная". Довольно много у А. Ника басен. Это, кстати, его сближает с Дмитрием Борисовичем Макриновым, у которого тоже несколько басен, и, по-моему, у Эрля есть что-то подобное басням. Она была, кстати, тоже опубликована в той упомянутой мной подборке, которую Эрль подготовил для “Митиного журнала”.
"Васильевна, давно тебя не видел. Откуда и куда? Какими здесь судьбами ты очутилась?" "Я не Васильевна, – ответила она сердито, – о смерти. Прости меня тогда, – ответил я, и наутек пустился. Мораль проста. Васильевны, остерегайтесь".
Интересные визуальные стихи. К сожалению, в нашем подкасте не показать ни одного. Я попытаюсь описать. Каждый может представить себе "Черный квадрат" Малевича, и в нем как бы белым мелом с переносами написано: “одно черное стихотворение”. А вот то, что оно черное, мне кажется, что здесь важно. Вот такое тоже характерное для А. Ника: "Я-то? Хе-хе, я!"
Или вот про... Я бы сказал, что это программное для него. "Явь – антисон с зубную болью глаз, дрожанием живота и слепотою речи, в которые слово, мат, тебя спасает от безумия. Иди же, сон, приснись скорей. Скажи, что явь – ведь ложь, калечащая душу. Сон не идет, не спится боле, и явь ночная давит на постель. Скорей вставай, вдруг чей-то голос. Встаешь и медленно ползешь ко сну".
Или вот такое уже 80-е годы: "Тело на тело, язык на язык живет еще в Праге писатель А. Ник. Хоть и зарыто сердце в земле, печень и почки еще не на дне".
Есть такое инфантильное тоже, кстати. И поэтому стоит прочитать замечательное стихотворение, которое тоже как бы с такой небольшой мета-направленностью, где дается подсказка, как такую литературу можно воспринимать. Не то чтобы нужно, но можно. Стихотворение имеет такое немножечко, может быть, даже не только детское, но и чешское название. Оно называется "детстих", в одно слово, детстих:
"Если бы не море, я бы был жучком, если бы не небо – паучком. По небу плывет кораблик, а в небе летит самолет. Кто меня правильно слушал, тот ничего не поймет".
И я позволю себе еще прочитать три, наверное, стихотворения.
"Руки мои и ноги, нос и голова, части моего тела, части моего я".
Это 75-й год, это уже Прага.
"Кошмар лезет не из головы, а в голову, чтобы найти в ней убежище, отгоните ли на чистое искусство".
Это уже почти Эрль на самом деле. Ну и, наверное, последнее, которое я завершу еще одним моностихом:
"Друг, правду мне скажи, ты счастлив ли бываешь, когда к тебе во сне приходит моя фигура с перегаром речи?”
76-й год. Вот как раз середина 70-х годов – страшно плодотворный период в творчестве А. Ника. Большинство текстов создал он именно в этот период. То есть это такая пора тотального письма, когда, я думаю, любой возбудитель готов был открывать шлюзы. Такой, в общем, ничем не сдерживаемой, как бы проецирующей фантазии. На такой все время готовый, почти пустой экран. Вот какой-то там представляемой, опять же, реальности.
Сегодня мы много говорили об этом странном положении, такого вот, да, отщепенства, такой маргинальности. Я думаю, что в момент, так сказать, доброго настроения А. Ник, наверное, испытывал еще и ощущение подъема, наверное, это видно в текстах, от того, что ему не мешает чужая, как раз помогает чужая языковая среда. Да, когда он не был принужден опять к какому-то, к какому-то, ну, я не знаю, даже общению, когда это общение скорее помеха. Да, и вот тоже такой мета-стих:
"Аляповатые, но ядовитые слова".
Я думаю, что это такая характеристика собственного отчасти. "Аляповатые, но ядовитые слова". Тут не только фонетическая составляющая, но и смысловая, семантика, конечно, тут важна. А. Ник довольно ядовитый автор. Он такой из “Цветов зла” отчасти, да. Но, тем не менее, такая модификация абсурда, можно, наверное, так сказать.
Александр Скидан: Спасибо, Петр. Я подумал о том, что, действительно, это не столько недовоплощенность, может быть, я погорячился с определением, скорее здесь есть какая-то проективность и потенцированность. То есть это такая что ли российская альтернатива УЛИПО, как бы УЛИПО без математики и без комбинаторики, хотя элементы комбинаторной поэтики у А. Ника присутствуют, но потенцированность-то уж точно, то есть из этих минималистских текстов, заряженных какой-то недопроявленной визуальностью, вмещающих в себя набросок возможной акции или продолжения этого текста в каком-то другом медиуме, мне кажется, это очень характерная и очень современная черта, которая еще какое-то второе дыхание, вторую жизнь может обрести.
Петр Казарновский: Да, я думаю, что да, вот как раз ты сказал очень уместно, да, ты сказал без математики. Математике не сказать, чтобы хоть отбавляй, но она есть. Вот текст, ты сам виноват в том, что я его прочту сейчас, текст называется "Три":
“В тридевятом царстве равно двадцать семь. В тридевятом государстве равно двадцать семь. За тридевять земель равно двадцать семь. Итог – восемьдесят один”.
Так что вот тут такой фольклорный, да, фольклорный отчет, подсчет. Вот, пожалуйста, математика, очень много математики:
“Десять дохлых мух на окне. Вот и все, что осталось от лета. Вот и все, что осталось от лета”.
Александр Скидан: Отлично, прекрасный финал. Спасибо! Дорогие слушатели, прощаемся с вами на сегодня и до новых встреч. Петр, спасибо огромное за разговор.
Петр Казарновский: Спасибо.

