«Человек-праздник». Поэзия и перформансы Германа Лукомникова
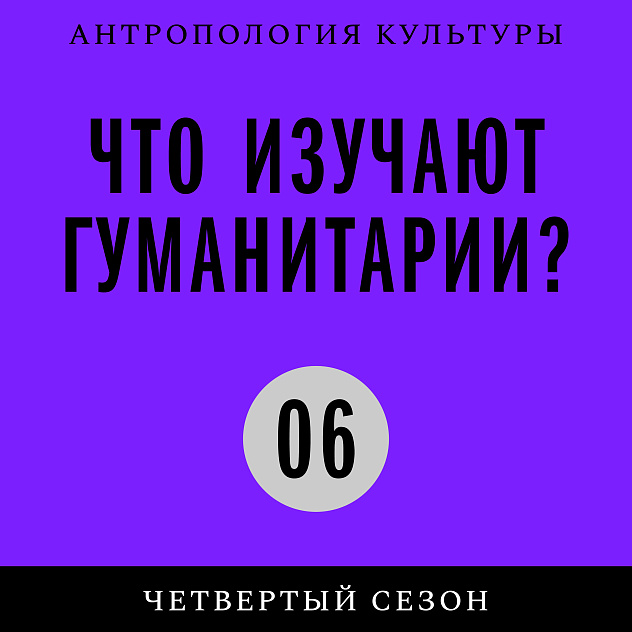
Подкаст ведет: Александр Скидан.
В гостях: Герман Лукомников, Михаил Павловец.
Поводом для обсуждения послужила статья Михаила Павловца «„Поэзия — это я“: перформансы Бонифация / Германа Лукомникова», вышедшая в 187 номере журнала «Новое литературное обозрение».



- 00:00:16 Тема и гости выпуска
- 00:03:24 Насколько поэзия Германа Лукомникова связана с традицией юродства
- 00:07:00 «Человек-праздник». О поэтическом ремесле
- 00:10:04 Перформанс с библиотечной карточкой
- 00:16:11 Стихи Лукомникова
- 00:23:15 О проблеме аутентичности поэзии
- 00:28:15 О внепоэтических ипостасях Лукомникова
- 00:35:50 Изменилась ли мнемоническая сила стиха?
- 00:39:50 Стихи последних лет
→ Читать полностью
Александр Скидан: Дорогие слушатели, рад вас приветствовать! Сегодня наша встреча будет посвящена поэзии неконвенциональной и даже не совсем вербальной, или только отчасти вербальной. Дело в том, что в 187-м номере "Нового литературного обозрения", это майский номер, он только что пришел из типографии, можете уже искать его в книжных магазинах, опубликован очень любопытный тематический блок, как раз-таки посвященный неконвенциональной поэзии и абсолютно не мейнстримным персоналиям и техникам поэтическим или очень условно-поэтическим.
В частности, статья Ильи Кукуя посвящена Владимиру Эрлю и его эстетике Хеленуктизма. Статья Петра Казарновского описывает случай А. Ника, это псевдоним Аксельрода Николая Ивановича, отсюда псевдоним, который работал и в поэзии, и в прозе, и с кросс-жанровыми различными видами искусств. Статья Владимира Фещенко посвящена кросс-лингвистическим опытам в поэзии, то есть поэзии, которая существует на границе разных языков и разных медиумов, начиная от сложных музыкальных композиций Елизаветы Мнацакановой и фоносемантики Анны Альчук и заканчивая ультрасовременными поэтическими техниками у Инны Краснопер и Варвары Недеогло.
А статья присутствующего сегодня в студии Михаила Павловца, доктора филологических наук, исследователя поэзии, рассказывает нам о поэзии и перформансе в случае Бонифация/Германа Лукомникова. Напомню, что псевдоним Бонифаций использовался Германом Лукомниковым до 1994 года, и множество акций, хэппенингов и перформансов проходили под эгидой именно этого псевдонима, который затем был отброшен. И, конечно же, замечательно, что сегодня в студии у нас и сам субъект этого исследования, субъект невербальной или не только вербальной поэзии, кросс-поэтической поэзии Герман Лукомников. Герман, очень рад тебя приветствовать в нашей студии.
Герман Лукомников: Привет-привет, здравствуйте, все!
Александр Скидан: И, конечно же, мне хотелось бы начать с такого нетривиального, может быть, неожиданного и для Михаила, и для тебя, Герман, захода. Очень много твоих акций и перформансов Михаил описывает в своей статье. Напомню, что тематический блок, посвященный этой неконвенциональной поэзии и маргиналиям поэтическим, называется "От андеграунда до акционизма". И эти описания твоих перформансов породили во мне вопрос. А вообще, насколько твой опыт участия в качестве актера в спектакле "Борис Годунов" Дмитрия Крымова, где ты играешь юродивого, насколько он в твоем понимании или представлении, может быть, или, может быть, как-то чисто интуитивно или даже телесно связан с традицией юродства? Юродство я имею в виду, конечно, в восточнохристианской традиции, которая каким-то неочевидным, может быть, образом, но с акционизмом в современном понимании и перформансом связана.
Ведь перформанс, в общем-то, если переводить тупо, буквально, это исполнение. Ты исполняешь юродивого. И я помню, что ты в своих соцсетях писал об этом опыте участия в спектакле довольно мощные такие эмоционально заряженные вещи. Вот хотелось бы мне начать с этого вопроса. Для тебя это разные все-таки, отстоящие исторические и концептуальные вещи? Или тут есть какая-то точка сборки? Я поясню, ведь все-таки очень много юмора, очень много трансгрессии в твоих перформансах, и они задействуют в том числе и публику, и телесность публики, и нарушают очень многие литературные и поэтические конвенции. Примерно так же, как это происходит в традиции юродства?
Герман Лукомников: Да, наверное, конечно, да. Но просто мне трудно самому об этом судить. Я бы предпочел, чтобы об этом говорили другие. Но для меня, конечно, всегда это была важная и интересная тема. Еще с детства, с отрочества, то, что мне попадалось в книжках про юродивых, я всегда читал с большим вниманием и интересом. И я думаю, что как-то я это, наверно, впитал, да. Надеюсь. Надеюсь. Какие-то истории о том, как два христианских юродивых днем переругивались и били друг другу морды, а вечерами залечивали друг другу раны, потому что днем это было представление. Они пародировали таким образом своих не очень вменяемых сограждан. В отрочестве я это читал. Я уже не помню этих имен. Но, наверно, это все на меня подействовало.
Александр Скидан: Тогда спросим Михаила. Что он думает про традицию юродства в связи с поэмами, перформансами Германа Лукомникова? Это один вопрос. А второй вопрос, даже не вопрос, а скорее просьба. В статье есть довольно подробное описание одного из любимых перформансов самого Германа Лукомникова. Вы не могли бы об этом чуть подробнее рассказать? Потому что, мне кажется, это очень аллегорическая история, в которой собрана действительно в компрессированном виде чуть ли не вся история послевоенной русской неофициальной поэзии.
Михаил Павловец: Если говорить про юродство Геры или его сценического имиджа, мне-то как раз казалось, что он не юрод. И скорее надо возводить тогда эти традиции не к юродивому, все-таки юродивый – это человек во многом спонтанный, экстатический. Мы часто знаем, что юродство еще и имеет под собой определенные ментальные проблемы. В общем, эти ментальные проблемы приближают человека к Богу. Для меня Герман скорее ближе, если искать какие-то корни его, ближе к образу скомороха. Герман – это человек-праздник.
Я просто сам, еще будучи педагогом, организатором разных мероприятий для школьников, например, чемпионата сочинений "Своими словами", приглашал Германа в детскую аудиторию, в школьную, довольно тяжелую, надо сказать, аудиторию. И я видел, как он работает. Это все-таки работа профессионала, это работа человека, который долго готовится заранее. Я знаю, что он серьезно очень готовится, делает программу, продумывает ход этой программы. Я вижу, что в его выступлении есть мощный элемент, безусловно, импровизации, но, с другой стороны, есть жесткий костяк сценария. И я вижу, что есть определенные наработанные приемы работы с аудиторией.
Ему важно, чувствует ли его аудитория, не устала ли аудитория, где можно аудиторию, на самом деле, немножко повеселить, растормошить, насмешить, а где, напротив, ее можно погрузить и в транс, а где ее можно заставить над чем-то серьезным задуматься. То есть, это, безусловно, работа человека, который живет в своей профессии, но, с другой стороны, эта профессия предполагает ремесло, опыт, умение, мастерство и постоянную коммуникацию со своей аудиторией.
И даже во внешности Геры я, скорее, вижу такие черты скомороха. Это его пышная борода, его всегда роскошные футболки. Особенно я люблю его толстые свитера из такой грубой шерсти. Помню один из его свитеров с какими-то ленточками пришитыми. И его экспрессия. Это, безусловно, экспрессия, скорее, жизнерадостная, скорее, такая не обвиняющая, не судящая, не бросающая какашками в бесов. А это экспрессия человека, приглашающего к взаимодействию, на праздник, на праздник слова, поэзии. Там очень много позитива. Я не уверен, что на самом деле юродство несет такой заряд позитива, как несет Гера, хотя он в состоянии затрагивать очень тяжелые, болезненные, причиняющие боль темы.
Ну, а если говорить про его перформанс, здесь, может быть, он бы даже сам лучше про него рассказал. Я, к сожалению, не был участником этого перформанса, его зрителем. Я сужу только по документальным свидетельствам, по тем вот... Прежде всего, конечно, то, что рассказывал хроникер известной литературной хроники города Москвы. Видимо, это был Дмитрий Кузьмин, да, Гера? Я не ошибаюсь?
Герман Лукомников: Ну, смотря о каком перформансе ты говоришь. Но, скорее всего, он. 90% текстов, я думаю, писал он в эту хронику.
Михаил Павловец: Ну, да, это и хорошо, и плохо, да, потому что сам Герман не заботится о документировании своих перформансов, как, наверное, и актер не заботится о том, чтобы его непременно снимали на камеру. Но, тем не менее, есть те люди, кто записывает или на видео, или потом пишет какие-то репортажи. И этот репортаж – что, о чем нам рассказывает? Как Герман работал с бумажкой, с карточкой библиотечной, в которой просверлена дырка.
Александр Скидан: Михаил, перебью на секунду. Для наших слушателей скажу, что это перформанс 1998 года, проходивший в интернет-кафе Screen.
Михаил Павловец: Да, в статье есть все эти данные, и с ссылками, и так далее, в том числе и со ссылкой на репортаж. Но, Гер, если я что-то сейчас по памяти неправильно воспроизведу... Я, конечно, могу открыть журнал и прочитать. Но я помню, что шла работа именно с библиотечной карточкой. Сама по себе библиотечная карточка для русской поэзии – это предмет особенно значимый. Мы помним, что на библиотечных карточках писал свои тексты Лев Рубинштейн, человек не случайный для того же Геры Лукомникова, чем-то ему родственный на самом деле.
И вот эту карточку Гера превращал в то, что его оппонент и коллега Ры Никонова называла "платформой", то есть чистый лист бумаги, на который нанесен вакуумный текст в виде буквы О, что изображает эта дырка. И тогда он эту букву О на разные лады, как я помню, читал: "О! о!.." Потом через эту дырку можно было смотреть на публику. Ну, вот что еще? Какие еще операции делал?
Да, я помню, что заканчивался весь этот перформанс тем, что Гера буквально на публике начал есть эту бумажку, то есть буквально поедать текст вместе с платформой, вместе с его носителем. И закончилось все сначала такой разыгранной тошнотой, когда поэта буквально начало тошнить его стихами. А потом, если верить хроникеру, я, опять же, здесь могу только доверять хроникеру, его и вырвало этими стихами.
Но, опять же, каждый из этих жестов и каждый жест Геры отсылал к какой-то поэтической традиции, фигуре, истории: к Рубинштейну, к Ры Никоновой...
Александр Скидан: К Авалиани, потому что эти карточки использовались как...
Михаил Павловец: Да, к Авалиани, да, потому что он... Перевертыши его, листовертни знаменитые, да, когда он переворачивал этот листочек, читал его и так, и так...
Ну и в конце концов, да, поедание своего текста и его исторжение из себя, тут можно и Петра Мамонова вспомнить, про которого говорили, что буквально тошнило его, когда он исполнял свои замечательные песни. Ну и ряд других. То есть здесь, на самом деле, такое поле для интерпретатора, который может прочитать тот или иной жест, тот или иной звук или действие перформера как отсылку к определенной традиции, да, такая маленькая антология неподцензурной поэзии второй половины XX века.
Герман Лукомников: Довольно точное описание, спасибо, друзья. Я только уточню один момент, что карточек было две, потому что я их менял – так же, как это делал Лев Семенович, я переворачивал, но их было две, но это была такая мини-колода, это было принципиально, это была именно колода из двух карточек. Вот, кстати говоря...
Михаил Павловец: Вот ещё такая отсылка к минимализму поэтическому, то есть если у Льва Семеновича карточек могло быть до сотни, даже чуть больше, то здесь всего две карточки. Так же, как некоторые Герины стихотворения состоят из одной строчки, из двух строк, или даже одного слова, или даже одной или двух букв, или даже знаков препинания, поэтому само число карточек это тоже по-своему отсылка.
Герман Лукомников: Да, две одинаковые пустые библиотечные карточки с этими вот пробитыми в них... дыркой, пробитой в ней для штыря в библиотечной картотеке. И, кстати, этот перформанс был снят на видео, и долгое время, несколько лет на сайте этого клуба Screen это видео висело, потом оно, к сожалению, исчезло, как бОльшая часть видеоматериалов, там был огромный видеоархив... Может быть, у них до сих пор это видео хранится, я не знаю, обращаться я к ним сейчас не решаюсь, потому что на этот сайт теперь просто страшно заходить...
Александр Скидан: Я почему еще вспомнил этот перформанс как нечто отдельно стоящее, потому что, действительно, это очень характерный перформанс, и он представляет не просто мини-антологию неофициальной поэзии в качестве... переводит эту мини-антологию в поэзию жеста и акционизма, но еще и помещает все это в библейскую рамку, потому что поедание книги, мы помним, в книгах пророков есть такой эпизод, когда ангел говорит, по-моему, то ли Иезекиилю, или Ездре, пророку израильскому: "Съешь эту книгу". И когда ты съешь эту книгу, то ты приобщаешься к этому высшему духовному опыту, познаёшь божественное, и тогда ты можешь быть настоящим пророком... Я, может быть, немножко навязчиво вспоминаю вот эту юродствующую пророческую парадигму, но мне кажется, что в каком-то латентном, юмористическом, снятом, может быть, чуть-чуть закавыченном виде, но она в поэзии и в перформансах Германа Лукомникова присутствует.
Михаил Павловец: Ну, я, кстати, тогда сразу, если можно, позвольте, перебью, но это отсылка и к концептуалистской практике, и сама эта метафора пожирания, и потом исторжения, и вот этот один из последних романов Владимира Сорокина "Манарага", где, собственно, еда употребляется на книгах, еда готовится на этих книгах, или последний его роман, где тот же самый мотив возникает. Так что в том-то и дело: как раз особенность того, что делает Гера Лукомников, – это может быть интерпретировано в самых разных системах координат, в самой разной аксиоматике, от религиозной, от такой профетической – и до вполне деконструктивистской, постмодернистской, и всякий раз это будет наполнено своим смыслом. Извините, да.
Александр Скидан: Нет, прекрасный комментарий, очень уместный. Герман, ну тогда, может быть, ты прочтешь несколько своих текстов?
Герман Лукомников: Сейчас попытаюсь.
[Герман Лукомников читает подборку своих стихотворений]
Александр Скидан: Спасибо. Отлично. Вот можно ничего не видеть, но сонорной составляющей и исполнительской настолько филигранно достаточно, что просто видишь как будто бы голограмму Германа Лукомникова, читающего эти стихи. Потрясающе. Спасибо, Герман.
Герман Лукомников: Спасибо, Саша. Рад.
Михаил Павловец: И, кстати, я обращу внимание, здесь сразу несколько речевых масок было. Тот Герман, который вначале читал свои стихи, и тот, который заканчивал, это два разных Германа, при том что это один и тот же.
Александр Скидан: Михаил, а можно подробнее про речевые маски?
Михаил Павловец: Ух, ну это вообще такая вечная тема, особенно актуальная тема и для современной поэзии и так далее. Это проблема, скажем так, аутентичности поэта, наличия некоего такого цельного образа... Понятно, есть поэты, чей образ, в том числе сценический, если они выходят на сцену, он определенным образом корреспондирует с тем образом, который мы вычитываем из их стихов, из их поэзии. Ну, там, не знаю, Дмитрий Воденников. И вот с Герой Лукомниковым тут сложнее, гораздо сложнее, потому что он... С одной стороны, у нас есть некоторое представление, кто он такой, что он делает в поэзии... Но это, во-первых, поражает широтой, потому что определить Геру Лукомникова, как вот мы, литературоведы, по словам Пастернака, любим шарики типологизировать и классифицировать по количеству дырок в них, которые мешают им летать...
Но тем не менее, да, когда о Гере говорят, о нем говорят то как о поэте-минималисте, то как о поэте формальных ограничений... То есть поэт, который, напротив, намеренно создает дополнительные... выбирает дополнительное количество правил, по которым делается его поэзия, и смотрит, что из этого еще получится, можно ли, подчиняясь этим правилам, написать некоторое стихотворение, которое останется не только стихотворением, но будет настоящей поэзией. О Гере говорят как о детском поэте и о взрослом поэте. О нем говорят как об эпиграмматисте, говорят как о довольно серьезном лирике, исповедальном лирике, безусловно. Поэте шуточном, даже вот вы, Александр, об этом сказали, что часто шуточные интонации... И поэте совершенно нешуточном. Поэте-переводчике, поэте-перформансисте... Поэт, который экспериментирует с визуальным обликом стиха, и просто выходит в область визуальной поэзии. Поэт, который экспериментирует с акустической стороной стиха. То есть, у него есть стихи, которые и записать-то невозможно, и которые можно только слушать.
И вот вопрос: как вот это все многообразие голосов, как все это многообразие форм поэтических, как они сходятся в одном человеке, в одном облике. И тут мы как раз и выходим в зону перформативности. Потому что мы понимаем, что все эти стихи слиты у нас с некоторым сценическим образом Германа Лукомникова. Который, в общем-то, не сильно меняется. Он может быть немножко, как сказать... похудее. Или потолще. Он может быть, скажем так, в футболке или в свитере. Но, тем не менее, есть некоторые... И борода может быть погуще. Или, наоборот, пореже. Или покороче. Потому что Герман даже однажды, помню, остался без бороды. Но, тем не менее, да. Это какая-то такая вот... качели между невероятным разнообразием и невероятной узнаваемостью, стильностью. Человек – это стиль, да? По Бюффону. Этот стиль, который проявляется даже в самых минималистических стихотворениях Лукомникова... Так же, как в довольно развернутых его текстах или книгах даже.
И, по-видимому, и сам... Для самого Германа это очень важно: кто я такой? что такое я? что такое моя поэзия? Есть такая, не знаю, слабость это или его хобби... Мне она страшно нравится: Герман коллекционирует тех, кто на него похож. Или тех, на кого он похож. У него в коллекции, по-моему, несколько десятков – да, Гер? – персонажей, если не больше.
Герман Лукомников: Там уже значительно больше сотни.
Михаил Павловец: То есть, понимаете, если ты похож на такое количество самых разных людей, тем более известных... Иногда понятно, что известных в мировом масштабе. Тогда возникает вопрос: а кто ты такой? Не вторичен ли ты? Не третичен? А с другой стороны, мы можем перевернуть эту пирамидку и сказать: посмотрите. Посмотрите, в любом из них тоже есть частичка Германа Лукомникова. Он вбирает их в себя. Он может их представить... И свой сценический облик... И вот этот...
Герман Лукомников: Миша, я только уточню по поводу этой своей коллекции, что... Да, я собираю, на кого я похож. Но именно по мнению разных людей. Мое собственное мнение там никак не представлено. Просто мне действительно очень часто самые разные люди говорят, слушай, как же ты похож на такого-то и такого-то. Иногда на каких-то знаменитостей. Иногда просто на каких-то их знакомых. Вот это вот я все коллекционирую.
Михаил Павловец: Тогда я только процитирую опять Пастернака, что бессознательное гения не поддается обмеру. Оно состоит из всего, что происходит с его читателями. И когда мы говорим о Гере Лукомникове, мы говорим прежде всего о том образе, который в нашем коллективном восприятии. Тех, кто знает, что такое поэзия, слушает, читает, смотрит, приходит на его выступления. Так что все равно это большая работа. Это большая работа по, с одной стороны, выстраиванию себя как чего-то цельного. Мы все так или иначе выстраиваемся в этой реальности. Но, с другой стороны, мы видим, насколько дробится, насколько мультиплицируется этот образ.
И в разных ситуациях, в разные эмоциональные моменты, жизненные моменты, даже... Ну вот у Геры есть такой проект, когда он читал свои ранние стихи. Стихи, как бы... ювенилии. Еще написанные до литературного периода. Но вот вопрос: а чьи это стихи? Это стихи Бонифация, это стихи Геры Лукомникова? С одной стороны, нет, он сам не считает, наверное, их частью своего собственного творчества. А с другой стороны, нет, считает, раз он их читает. Значит, он так или иначе и эту границу пробует на прочность. И ставит вопрос о том, когда мы становимся собой, когда мы перестаем быть собой... Когда мы становимся поэтами? – когда мы пишем первую поэтическую строчку? А Гера помнит первые свои поэтические строчки. Их он тоже публиковал в своем собрании. Или все-таки тогда, когда мы сами можем удовлетворенно сказать: да, ну вот это уже не стыдно показать...
Ведущий: Это мы еще не коснулись других – непоэтических или не совсем поэтических ипостасей Германа Лукомникова, который выступает и комментатором, и собирателем чужих текстов, и составителем антологий, и участвует в слэмах. И он даже победитель нескольких слэмов, в том числе международных. Вице-чемпион Парижского чемпионата слэм-поэзии в 2015 году. Ипостасей гораздо больше, чем мы даже сейчас успели перечислить.
Михаил Павловец: "Особые мастерские". О них обязательно надо сказать. Это проект Геры. Он работает вместе с "особыми мастерскими". Это ребята с особенностями, как сейчас говорят. Которые делают вещи, опираясь на тексты его стихов. То есть, это вещи, которые рождаются из стихов Геры Лукомникова. Более того, они начинают делать свои собственные стихи, вдохновленные его опытом. Он показывает, как это делается. Что это возможно. И эти стихи можно купить на кружках, на футболках, на картинах. Эти стихи буквально по-хармсовски превращаются в те самые вещи, которые могут бить окно. Которые овеществляются, и окружают нас, и составляют часть нашей утвари, нашего мира, в котором мы живем. Поэтому Гера вездесущ и многообразен.
Герман Лукомников: Миша, я только уточню, что, конечно, нельзя сказать, что это именно мой проект. Я очень горжусь этим нашим сотрудничеством. Но это придумали руководители этих "особых мастерских". Прежде всего, Тамара Лаврентьева и другие.
Михаил Павловец: Ну, хорошо, что мы о них сказали. Правда, Гер? Мне кажется, это очень важно.
Герман Лукомников: Для меня это просто дороже любых премий. Это иллюстрации "особых художников", людей с особенностями. Людей не от мира сего. То, что даже для них мои стихи оказались важны и интересны – это я считаю своим, может быть, едва ли не самым главным достижением в жизни.
Александр Скидан: А ты им рассказываешь про Бонифация?
Герман Лукомников: Ну, про Бонифация как-то рассказывать особо нечего. Это просто мое прозвище, которое ко мне прилепилось в конце 80-х годов. И которое мне показалось вполне уместным, когда я начал выступать и публиковаться. Ну, просто меня в те годы все так называли. А в начале 94-го года что-то такое со мной случилось. Я почувствовал, что это имя, это прозвище, этот образ... Мне это помогало, и вдруг стало мешать. И я как-то... Не то что даже отказался. Я просто почувствовал, что это уже всё. Это уже прошлое.
Михаил Павловец: Ну, это, кстати, очень интересный кейс. Можно, Гер, тебя дополню? Обрати внимание, насколько поэт на самом деле все равно до конца себе не принадлежит. Ты сколько? Больше 20 лет... 30 лет назад отбросил этот псевдоним, но он все равно живет вместе с тобой. Он тебя преследует. Я знаю целый ряд людей, которые все равно за глаза тебя называют Бонифацием.
Герман Лукомников: Иногда и в глаза. Я не протестую. Почему нет? Даже некоторые публикации совсем старых стихов, вот того периода, начала 90-х, я даже до сих пор иногда так подписываю. А некоторые публикации, и книжки мои даже некоторые, подписаны двояко: Бонифаций и Герман Лукомников. Это выглядит как Ильф и Петров примерно. И, наверно, не все, кто видит такую обложку, понимают, что автор один человек, а не два.
Александр Скидан: Я должен признаться, что у меня просто с языка слетает, когда я вспоминаю в связи с какой-то твоей публикацией где-то или в соцсетях постом: о, Бонифаций! То есть у меня как-то... Первое слово дороже второго. Не Герман Лукомников. Это как-то для меня слишком официально. Я уже как будто, знаешь, вхожу...
Герман Лукомников: Ну, мы с тобой познакомились как раз в тот период.
Александр Скидан:Да, когда ты был еще Бонифацием. И вот у меня как-то это просто отпечаталось очень сильно. И с этим образом из мультфильма срослось. Я очень любил этот мультфильм. Тоже мне не стыдно в этом признаться. Я сейчас с удовольствием вспоминаю вообще какие-то отличные совершенно, тончайшие по юмору и по даже экзистенциальным каким-то переживаниям советские мультфильмы. А Бонифаций один из тех самых персонажей, о котором невольно запоминаешь на всю жизнь. Уже давным-давно не смотришь детского ничего и не читаешь...
Герман Лукомников: Вот в честь этого льва, этого персонажа мультфильма меня и назвали. Причем есть несколько человек, каждый из которых утверждает, что это именно он первым придумал меня так называть.
Михаил Павловец: И вот это тоже интересно. Это опять то, о чем я говорю. Какое количество людей на самом деле участвует в том, чтобы у нас был поэт Бонифаций/Герман Лукомников. Что все равно он живет так или иначе в нашем восприятии, в тех стихах, которых... Кстати, я не знаю другого современного поэта, <такое> количество стихов которого в коллективной памяти живет. Вплоть до того, что Гера выступает – за ним повторяют эти стихи. Его просят прочитать то, что и так знают наизусть. Конечно, обычно это не так сложно, потому что это короткие минималистические тексты. Но тем не менее. Кто еще может этим похвастаться?
Герман Лукомников: Иногда даже подсказывают забытую строчку.
Александр Скидан: Это, кстати, большая редкость, когда мы говорим о современной поэзии, когда вот есть такие кристаллы мнемонические. Когда в одном ряду с классическими какими-то строчками, которые мы знаем еще со школьной скамьи, запоминаем, или даже, может быть, до школы... А чтобы современных поэтов так запоминали, как Германа Лукомникова... Я что-то других таких примеров не могу вспомнить. А здесь просто, ну, огромное количество текстов люди помнят наизусть. В самом деле. Это парадокс.
Михаил Павловец: В культурных семьях бывает свой набор цитат. У меня, например, мама филолог. Поэтому, понятно, детство все выросло в цитатах "Горя от ума". Я потом уже, читая в школе "Горе от ума", вдруг понял, что это все строчки из "Горя от ума". Так вот, в нашей, например, семье... Я знаю целый ряд таких семей, где есть просто свои семейные мемы, свои семейные словечки... "А потомуша я копуша", например. Или "быть собой самим не бойся". То, что можно было сказать друг другу. Или "ищу пальцами и щупальцами". И это просто вошло в нашу коммуникацию. Это то, чем мы живем. Уже не надо говорить, чье это. Просто как пословицами сыпем, как поговорками. Вот так сыпем словами Бонифация.
Герман Лукомников: Спасибо, друзья. Я очень тронут.
Александр Скидан: Герман, у меня такой вопрос. Перед тем, как ты еще почитаешь свои стихи, которые мы очень ждем. Вот такой вопрос. Если тебе не понравится, не отвечай. Но я хотел бы спросить. Возвращаясь к тому, с чего начинал. Этот перформанс в интернет-кафе Screen 98 года, который представляет собой такую жестовую мини-антологию неофициальной русской поэзии. Вот скажи, пожалуйста. Понятно, что с 98 года много воды утекло. И уже Льва Семеновича Рубинштейна с нами нет. Увы. Огромная утрата. Огромная фигура. Значимая, конечно. Но вообще этот контекст, когда мы существуем в большей степени в соцсетях, в медиапространстве с их повестками, которые новостные ленты формируют. Или какие-то пропагандисты и так далее. Вообще мнемоническая сила стиха – она изменилась? Ты вот на себе, на своей собственной шкуре, шкуре Бонифация, как-то ощущаешь, какие метаморфозы сейчас с этим происходят? Возможно ли сейчас на другом каком-то уровне повторение даже не самого перформанса как мини-антологии неофициальной поэзии, а скорее как жеста, стягивающего в этот мнемонический кристалл наше недавнее прошлое, еще животрепещущее? Это возможно в поэтическом контексте? Или наше поэтическое, профессиональное, даже шире – литературное сообщество настолько сейчас фрагментировано, что такой жест невозможен?
Герман Лукомников: Вообще этот перформанс я считаю своим самым удачным перформансом. И мне безумно жаль, что пропало вот это вот видео. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь из каких-нибудь недр этого сайта оно будет вытащено. Я его не повторял. Вообще интересно, что у меня есть такие стихотворения с перформативным элементом, которые я просто читаю более-менее часто, исполняю. А были вот такие чистые перформансы, я их называл "Человеческие поэмы", это вот один из них. И их я, как правило, не повторял, они все были одноразовые. Вот. Но поскольку вот прошло уже сколько, 26 лет, я вот думаю, может быть, все-таки попытаться. Единственный способ проверить, Саш, это... единственный способ ответить на подобный вопрос, это проверить, это попробовать. Я практик, я вот из этого всегда исхожу. Если возникает какой-то теоретический вопрос, ответить на него можно только практически. И может быть, я попытаюсь.
Александр Скидан: Позови, пожалуйста, меня.
Михаил Павловец: Обязательно, да. Мы уже записаны.
Александр Скидан: Да, предупреди, мы запишем. Я просто хочу это видеть.
Михаил Павловец: Можно я быстренько расскажу? Есть тоже такой перформанс, Гера как-то рассказал, что он читал абсолютно безмолвные стихотворения. Он говорил, что в нем примерно от 7 до 9 строф, как ему это видится. Это такое стихотворение-жест, стихотворение-поза, где содержание его пробегает по лицу поэта, в его жестах, в его мимике. Но он при этом абсолютно безмолвным остается. И удалось потом повторить это выступление на конференции как раз. По-моему, это были Сапгировские чтения, которые Юрий Борисович Орлицкий делает. И в конце – традиционные поэтические чтения, Герман прочитал ряд своих стихотворений, известных нам и новых. И в частности, вот по просьбе нашей, повторил. И есть запись теперь. Эта запись тоже разошлась в интернете. Меня даже специально немецкие коллеги просили: мы знаем, что у вас есть эта запись. Пожалуйста, пришлите. Мы тоже хотим это видеть.
Герман Лукомников: Да, вот это было стихотворение-пантомима. Как раз это редкий случай такого чистого, бессловесного стихотворения перформанса, которое я повторял. В начале 90-х я его вообще читал так вот... Ну, если можно сказать "читал". Исполнял время от времени. Но вот по твоей личной просьбе, Миша, я его повторил через пару десятилетий.
Михаил Павловец: И оно теперь записано, что хорошо.
Александр Скидан: Ну, что, друзья, давайте теперь послушаем еще.
[Герман Лукомников читает]
Александр Скидан: Спасибо. Великолепная кода. С нами сегодня был поэт, акционист, перформансист, комментатор Герман Лукомников и исследователь поэзии, доктор филологических наук Михаил Павловец, чью статью мы обсуждали, и даже сам предмет, субъект этой статьи принимал в этом участие. Я вам, друзья, хочу выразить...
Михаил Павловец: Завидуйте, пушкинисты!
Александр Скидан: Да, да. Не каждому пушкинисту такое вообще предложат. Спасибо вам, друзья. По-моему, отличная беседа у нас получилась. Спасибо, дорогие слушатели.
Герман, гениальное совершенно последнее стихотворение, про друзей. С каждым новым стихотворением я хватался за отсутствующий пистолет. Думал, ну, лучше-то уже, точнее не скажешь о нашем времени. Ан нет, оказывается, скажешь. И всё это Герман Лукомников. Спасибо, друзья.
Михаил Павловец: Спасибо.
Герман Лукомников: Спасибо, Саша. Спасибо, Миша. Спасибо всем. Пока-пока.

