День независимости Камеруна, дело врачей и лондонское метро
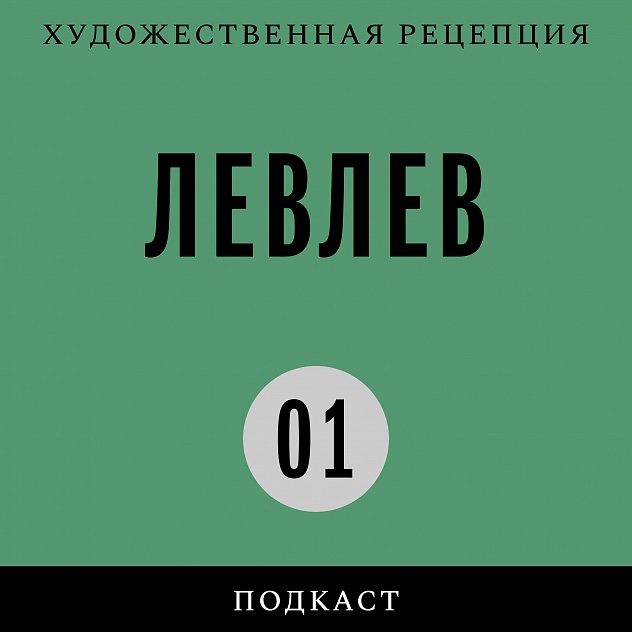
Подкаст ведут: Лев Рубинштейн, Лев Оборин.

- 00:00:16 Что это за подкаст?
- 00:06:21 Календарь как вид литературы
- 00:09:45 Раввин и линия отрыва (анекдот от Л. С.)
- 00:12:03 Первое января. День независимости Камеруна и писательские способы получать подарки
- 00:16:00 Второе января. Богдан Хмельницкий и несостоявшиеся встречи
- 00:17:58 Четвертое января. Юта, штат США и дворняжка
- 00:19:28 Шестое января. Погоны в советской армии
- 00:22:16 Смерть Сталина как поколенческий водораздел
- 00:30:28 Седьмое января. Наследный принц Японии
- 00:33:03 Десятое января. Лондонское метро. Метро как детское чудо
- 00:38:24 Пятнадцатое января. Первая женщина-президент Чили. Учителя и завучи
→ Читать полностью
Лев Оборин: Лев Семёнович, здравствуйте, очень рад вас видеть. Давно ли сидели за одним столом друг напротив друга!
Лев Рубинштейн: Да, кажется, что недавно, хотя вроде бы уже теперь и давно. Сейчас столько всяких событий, что непонятно, что давно, а что недавно. В общем, я рад встретиться хотя бы в таком жанре.
Ну вот мы начинаем этот подкаст. Я должен признаться, я впервые в жизни участвую в подкастах, поэтому прошу меня заранее извинить за какие-нибудь накладки или неловкие речевые телодвижения.
Л.О.: Это почётно для нас, что мы ваш первый подкаст!
Л.Р.: Друзья, мы участвуем в самом первом подкасте под названием «ЛевЛев», и мы решили так, что мы начнём крутиться вокруг одной моей книжки, которая сколько-то лет назад вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Книжка называется «Целый год». Уже понятно из названия, по крайней мере, можно догадаться, что она представляет собой календарь. Там есть на каждый день какая-нибудь запись. У этой книги есть предыстория. Всё началось с театра, как ни странно. Существует в Москве театр «Тень», это маленький и совершенно замечательный театр, очень известный в театральных кругах, он имеет кучу «Золотых масок», и я с ними дружу. Не так давно умер художественный руководитель этого театра Илья Эпельбаум, умер от ковида, это было ужасно, потому что и театр осиротел, и театральная вообще общественность осиротела, и я лично осиротел, потому что мы были очень дружны. Поскольку мы давно дружим, мы всё время говорили о том, что нам хорошо бы придумать что-нибудь совместное. И мне их эстетика была очень близка, и им моя эстетика была очень близка, и Илья мне однажды предложил: давай, говорит, ты сделаешь такое что-то типа календаря, на каждый день что-нибудь ты сочинишь, а я, значит, сам и привлеку ещё какое-то количество художников-аниматоров, и мы на каждый день на каждое событие сделаем маленький-маленький, маленький видеосюжет анимационный. Мне эта идея понравилась, я довольно быстро написал этот текст. У меня действительно есть каждый день, я нашел где-то календарь памятных дат, где на каждый день было много чего написано. Я сознательно выбирал, за редким исключением, что-нибудь неочевидное в этот день. Для примера скажу, что по поводу седьмого ноября, например, я нашел, что в этот день, то ли в Калуге, то ли в Туле, я уже забыл, был открыт первый в России вытрезвитель. Мне показалась эта дата очень важной. Я из этого календаря знаменательных дат выдёргивал какой-то текст, по поводу которого писал свой, рефлексивный, который с предыдущим, с основным, связан скорее по касательной, связан скорее ассоциативно, чем напрямую. Я там за какое-нибудь ключевое слово цеплялся, вот я прочту, это будет понятно. А на каждый мой текст ещё был сделан анимационный ролик маленький. Он был примерно на такое же время, на какое читался вслух мой текст. Он был такой, в общем, минутный, этот ролик. Он уже тоже был по касательной, в общем, там такая возникала несколько джазовая ситуация, когда каждый музыкант подхватывал какую-то тему и превращал ее в свою. Вот так возникла эта штука, мы демонстрировали её в качестве спектакля. Я физически в этом участвовал, я зачитывал сам собственный текст, за моей спиной, значит, на экране шли вот эти самые маленькие анимационные фильмики. На одном из спектаклей побывала всем нам известная Ирина Дмитриевна Прохорова, главный редактор «Нового литературного обозрения», она посмотрела, ей понравилось, она потом отозвала меня в сторону и говорит, а давайте мы, Лёва, сделаем это в виде книжки. Я говорю, ну как же, я же это вроде писал, так сказать, для театра, что это будет за книжка. Она говорит, это нормально всё будет, поверьте мне. Ну я собрал все эти тексты, отдал в издательство, и через какое-то время действительно вышла книжка. Жалко, что мы не можем никому ничего показать, потому что книжка очень красиво издана. Там художник Дмитрий Черногаев, которого я знаю с детства, между прочим, он совершенно замечательный книжный художник, вот он прекраснейшим образом эту книжку оформил. Я немного занимаюсь рекламой, ну и что, правда. Так возникла эта книжка, которая бытует так, как бытуют книжки обычно. Но это тоже не всё, потому что сравнительно недавно, по-моему, месяца два или три последних, я по непонятной для самого меня причине вдруг стал последовательно, ежедневно выкладывать в соцсети из этой книжки какой-то день. День этот всегда соответствует сегодняшнему дню. И многие, которые это читают, тоже уверены, что это мой новый проект. Потом я с кем-то встречаюсь, говорит, ты что, прямо каждый день сочиняешь? Говорю, нет, это существует книга, а до книги существовал спектакль, ну и так далее. В общем, этот целый год, он как-то бытует в очень разнообразном виде.
Л.О.: Да, а теперь он будет бытовать и так, тем более, что вот эта идея...
Л.Р.: Вот, а теперь ещё да, да-да-да...
Л.О.: Идея отталкиваться от календаря и обсуждать «А что у вас?», как говаривал советский классик, она чрезвычайно заразительна.
Л.Р.: Да, ну почему ещё для меня календарь, почему я немедленно откликнулся на идею Ильи Эпельбаума, потому что меня вообще всегда интересуют такие, скажем, маргинальные или технические, условно говоря, жанры словесности. Вот как бы не основные, не магистральные. Вот календарь меня интересует, экзаменационные билеты меня интересуют, сонники меня интересуют, черновики меня интересуют, вот... А календарь...
Л.О.: Ну карточки, Лев Семёнович, карточки.
Л.Р.: Именно, именно.
Л.О.: Если оторвать от календаря листочек, получится, в общем-то, карточка.
Л.Р.: Конечно, конечно, я как раз хотел сказать, что всё моё детство прошло на фоне отрывных календарей. Это всегда было жутким... В детстве удивительным для меня был какой-нибудь привлекательный предмет, вот, отрывной календарь.
Л.О.: Для меня тоже, это была такая «Википедия» до «Википедии» и «Твиттер» до «Твиттера».
Л.Р.: Да, да, да. Он висел на стене, ежедневно это моя привилегия была отрывать каждый день, значит, по листочку, потому что взрослые всё время забывали об этом и всё время натыкались на какой-нибудь прошлонедельный листок, и я отрывал. Но когда календарь был куплен, ещё до Нового года, он покупался где-то мамой, где-то, значит, за неделю-за две до Нового года, и я, конечно, его сначала прочитывал насквозь. Каждый листок календаря — он был какое-то совершенно самостоятельное, такой тоже самостоятельный жанр литературы, причем очень постмодернистский, как потом выяснилось, потому что там помещалось, ну кроме собственно календарных сведений, какое сегодня число, какая долгота дня, там какая-то была мутная картинка, чаще всего какой-нибудь портрет какого-нибудь видного деятеля международного коммунистического движения. Когда не было на этот день никакого деятеля, была какая-нибудь мутная картинка, под ней была подпись, почему-то, «С картины Саврасова „Грачи прилетели“».
Л.О.: А с другой стороны что-нибудь было, или оно только на одной стороне?
Л.Р.: И ещё как, с другой стороны могло быть стихотворение Лермонтова «Парус», а чуть ниже, там всё мелким, чуть ниже были советы хозяйке, как резать лук и не плакать, например, вот такие советы.
Л.О.: То есть всё в одном, да?
Л.Р.: Абсолютно. На одном листке как бы вся жизнь была.
Л.О.: Лев Семёнович, а разные были жанры этих календарей, или он более-менее на всех одинаковый...
Л.Р.: Нет, был один, такой, основной, так сказать, календарь календарей, но был, моя мама любила, женский календарь. Он был похож на основной, но чуть-чуть с упором на резанье лука, так сказать, и хранение хлеба, чтоб не черствел.
Л.О.: Да, я просто помню этот жанр по девяностым годам, когда их расплодилось невиданное множество.
Л.Р.: Это да, потом...
Л.О.: Были с анекдотами, с рекордами Гиннесса, ну и, понятно, сад и огород. Я один такой купил перед началом 2022 года и он, разумеется, не пригодился.
Л.Р.: Где-то в середине девяностых годов у меня было даже эссе такое, еще в журнале «Итоги», когда там я писал. Как раз о календарях. Эссе называлось «Линия отрыва», потому что эти календари отрывались. Кстати, про эти отрывные календари был анекдот старый, может быть, уместно его рассказать. Значит, один авиаконструктор, который проектировал самолёты, всё время у него прямо какая-то трагедия. Только он сконструирует самолёт, самолёт начинал проходить, значит, испытания, и всё время отламывалось одно крыло. И никто не мог ничего понять, он ещё проектировал этот самолёт, он укреплял, опять отламывалось одно крыло, он не знал, что делать, никто ему ничем не мог помочь. Но тут он вспомнил, что в том местечке, где он провёл детство, значит, был какой-то очень мудрый такой раввин, и он узнал, что этот раввин еще жив, и он к нему поехал посоветоваться, поскольку в его детстве все с этим раввином советовались по всем вопросам. Он приехал к нему и рассказал, вот, так и так, я делаю самолёты, у меня крыло всё время отрывается в одном и том же месте, что мне делать. Он говорит, в том месте, где отрывается, просверли дырочки маленькие. Говорит, ну как, так же тогда совсем оторвётся. А ты просверли, ты меня послушай. Ну он так и сделал, и значит, самолёт прошёл испытания, прошёл блестяще, ничего нигде не сломалось, не оторвалось. И он поехал благодарить этого ребе и говорит, скажите, но как вы это поняли. Он говорит, дело в том, что у меня был старый еврейский календарь, и он никогда не отрывался по дырочкам.
Л.О.: Мне мой папа, работавший программистом на авиаремонтном заводе, рассказывал этот анекдот, но он был про туалетную бумагу, что она не рвётся по перфорации.
Л.Р.: Ну в общем, да.
Л.О.: Это уже позднесоветская реалия, видно.
Л.Р.: Тут уже самолёты, да, смешнее. Ну вот. Ну вот и календари, да. Так что календарь для меня как бы не совсем был новым делом в этом смысле. Поэтому я с удовольствием взялся за этот проект. И книжкой я в общем доволен. А вот сейчас книжка книжкой, но когда это ежедневно в Интернете, значит, какой-то другой в этом смысл. И некоторые люди считают что это я каждый день что-то сочиняю. Ну мне приятно. Ну давайте что-нибудь отсюда, да?
Л.О.: Мне кажется, что пора уже прочитать какие-то важные календарные даты.
Л.Р.: Давайте, давайте. Значит, мы читаем, естественно, январь, да. Так что всех с наступающим заодно. Вот. Первого января. Значит, сначала... Повторяю, сначала идёт как бы не мой текст, сначала идёт текст из календаря этих знаменательных дат, а следующий мой.
«1 января. Ежегодно западноафриканская страна Камерун отмечает свой главный праздник — День независимости. Это не только праздничный день в республике, но и чрезвычайно важный в истории страны день, день чести и гордости для всех камерунцев.» Дальше мой текст: «Я собирал марки. Самыми ценными в те годы были «колонии», — заковыченное слово. «Потом стали исчезать сами колонии, а марки еще какое-то время украшали наши коллекции. Между прочим, марки Камеруна у меня как раз и не было. И уже не будет — вот что особенно обидно.» Тут требуется опять маленький комментарий, значит, жизнь, что называется, вносит коррективы. Мой текст кончается «И уже не будет — вот что особенно обидно.» Так вот, я должен сказать, что уже есть. Потому что сравнительно недавно, где-то в гостях, меня познакомили с каким-то человеком, которого я раньше не видел, но который меня знал, а я его нет. Нас другу представили, а он мне говорит: «Вы знаете, у меня для вас есть подарок». Я говорю: «Что, интересно, что за подарок.» И он мне вручил марку Камеруна. Он говорит: «Я просто читал»...
Л.О.: А у вас кляссеры остались?
Л.Р.: Нет, к сожалению, нет. У меня моя коллекция во время всех этих переездов, я много раз менял квартиры, нет, к сожалению, всё пропало. Кому-то я подарил. У меня кстати неплохая была коллекция.
Л.О.: Могли бы сейчас продать, в принципе.
Л.Р.: Не думаю, нет-нет, она была неплохая с моей точки зрения, она была, как я сейчас понимаю, с точки зрения филателиста какая-то неправильная. Так вот, у меня теперь есть марка Камеруна. У меня теперь нет других марок, вот, а марка Камеруна есть.
Л.О.: Можно так, собственно говоря, через текст выпрашивать какие-то нужные раритеты.
Л.Р.: Это правда, это правда.
Л.О.: Нет у меня в коллекции, например, зуба такого-то динозавра, и тут паолеонтолог приходит...
Л.Р.: Совершенно верно. И приносит скелет. Или хотя бы один позвонок.
Л.О.: По поводу Камеруна я могу вспомнить только то, что в моём детстве я прочитал стишок, лимерик, значит, который звучал так:
«Говорил удивительный врун,
Я сегодня лечу в Камерун,
Чтобы знали вруны даже этой страны,
До чего я отчаянный врун».
Л.Р.: Да-да-да.
Л.О.: И этой такой в общем-то пример парадокса критянина, мы же не знаем, летит он в итоге в Камерун.
Л.Р.: Да-да-да.
Л.О.: Или он нам наврал. Я стал искать этот стишок и нашёл его в журнале «Мурзилка» за 1991 год, там детей, читающих «Мурзилку» ещё в советское время, теперь учат рыночной экономике, Мурзилка идёт в банк, там проценты какие-то, деньги он меняет.
Л.Р.: Отлично, отлично, да-да-да. Берёт ипотеку, да?
Л.О.: Ну это уже в двухтысячные годы такой был «Мурзилка», я думаю.
Л.Р.: Ага. А, тогда же была тенденция, именно, я помню, в девяностые годы, была тенденция, причём в либеральной такой как бы среде. И очень многие хорошие и прекрасные люди ее придерживались, что вообще надо людям как-то прививать уважение к деньгам, к зарабатыванию денег, к богатству, да. Да, это многие люди...
Л.О.: Успенский выпустил книгу «Бизнес крокодила Гены».
Л.Р.: Вот-вот, это был такой тренд в то время. Такой российской интеллигенции, воспитанной на идеализме, это было чуть-чуть так... Все так поёживались, было понятно, что, может быть, это было и надо. И помогло, как мы видим. Так, едем дальше.
Л.О.: Давайте дальше.
Л.Р.: «2 января 1649 г. Богдан Хмельницкий триумфально встречен в Киеве как освободитель Украины.
Однажды в Киеве мне назначили встречу у памятника Богдану Хмельницкому, а я почему-то более получаса простоял около памятника Тарасу Шевченко. Когда я наконец понял, что я стою не там, было уже поздно — встреча так и не состоялась. Ну и бог с ней, не такая уж и важная встреча. Хотя, конечно, неудобно, что человек тоже стоял у другого памятника и меня там ожидал. Нехорошо, в общем, получилось.»
Это вообще такие обычные истории с этими... Чаще всего это не с памятниками, а бывало со станциями метро чаще.
Л.О.: Двумя Арбатскими, да.
Л.Р.: Двумя Арбатскими, да. А приезжие люди, они путают какую-нибудь Новослободскую и Новокузнецкую, Красносельскую и Краснопресненскую, да, и так далее. У меня был тоже такой случай. Я где-то на Новослободской прождал человека, он меня ждал на Новокузнецкой, я в какой-то момент догадался, что он на Новокузнецкой, и туда поехал, но пока я туда ехал, он тоже догадался, что, видимо, надо поехать на Новослободскую, он тоже туда поехал.
Л.О.: У Николая Носова был такой рассказ, как мама и дети, потерявшие друг друга, едут то на одном, то на другом эскалаторе.
Л.Р.: Навстречу.
Л.О.: И никак не могут состыковаться. Ужасно, ужасно, что никто уже нам встречи ни у памятника Хмельницкому, ни у памятника Шевченко не назначит.
Л.Р.: Это правда. Здесь как бы ничего содержательного нет особенно, но зато здесь очень прозрачен вон тот самый прием, который я постоянно в этом тексте большом использовал, когда по касательной.
«4 января 1896 г. Юта стала 45-м штатом США.
Ютой звали дворняжку, жившую в доме моей подружки Тани Синодовой. Она, то есть дворняжка, была старая и хромая. Вот запомнил почему-то.»
Л.О.: Это вообще ужасно интересно, конечно, что некие эфемерные сущности вроде животных нашего детства получают бессмертие таким образом.
Л.Р.: Да, у меня такого много, да. У нас тоже эти тоже кошки менялись все время, да, я их всех помню.
Л.О.: А у вас собака была?
Л.Р.: Собака была, знаете... Трудно сказать, что у нас. У нас был, знаете, Буян такой, значит, который был как бы общим во дворе. Он жил в будке, его как-то все подкармливали. Жутко бестолковый был пёс. Однажды он покусал почтальоншу тётю Катю. Совершенно не понятно, почему, он вроде не был агрессивным, но вдруг однажды, то ли она на него замахнулась, в общем он её тяпнул за лодыжку, причём не больно, но она жутко скандалила и грозилась всё время в суд подать, в результате все скинулись, в общем, денег ей дали, она успокоилась.
Л.О.: А как же сорок уколов в живот, или тогда не было этого протокола?
Л.Р.: Да чего-то как-то нет, по-моему... Это касалось этих самых... Ну вроде она считалась домашняя. В общем, тёте Кате было интереснее получить трёшку, чем уколы в живот.
«6 января 1943 г. В СССР введены погоны для личного состава Советской армии.
У меня есть фотография отца именно с такими погонами. Она была прислана с фронта в 1943-м году. Мой старший, а тогда пятилетний брат страшно гордился этой фотографией. Однажды, когда он вместе с мамой стоял в очереди за хлебом, он громко спросил: „Мама, а кто главнее — папа или Сталин?“. Мама сделала вид, что не услышала. Те, кто стоял рядом, тоже.»
Л.О.: Это, мне кажется, у вас же была история, о том, как вы в транспорте спросили, когда Сталин уже умрёт, у своей мамы.
Л.Р.: Да, это было в 1952 году, мне сколько было, мне было пять.
Л.О.: Мама позеленела, наверное.
Л.Р.: Ужас! Мама сказала, нам выходить.
Л.Р.: Я начал кричать: «Нам не здесь выходить!». А она: «Нет, здесь!».
Л.О.: Про погоны, на самом деле, это для меня...
Л.Р.: А ещё мы ехали с ней, я забыл, на каком транспорте, мимо памятника Дзержинскому. А я тогда тоже громко спросил, что это за дядя, который из трубы вылез. Помните этот памятник? Он действительно из какой-то трубы вылез.
Л.О.: Ну в смысле, который на Лубянке стоял, да?
Л.Р.: Ну да, да. Он же на какой-то трубе просто стоял.
Л.О.: Из трубы, да. По поводу погон — для меня это лично милая очень история, потому что моя бабушка, тёща папы, который работал на авиаремонтном заводе, она работала на погонной фабрике в Подмосковье, которая называлась ГУТМО. Не помню, что это значило, когда-то она называлась «Фабрика военной фурнитуры и знаков различия», и она там, действительно, на швейной машинке эти погоны клепала и строгала, там же еще и пуговицы делались, и так далее.
Л.Р.: Эти пуговицы были основными игрушками моего детства.
Л.О.: Такая валюта может быть.
Л.Р.: Все, да, да. Игрушек особенно не было, а пуговиц было много, потому что все взрослые вернулись там с фронта. Были больше, меньше эти пуговицы. И погонные звёздочки, кстати.
Л.О.: Вот так что, может быть, наши с вами семьи встречались через эти погонные звёздочки когда-то.
Л.Р.: Может быть, но я подозреваю, что ваши родители примерно моего поколения или постарше всё-таки?
Л.О.: Помладше, помладше. А бабушка, бабушка 25 года, она примерно в 1950-е, в 1960-е работала на этой фабрике.
Л.Р.: А родители каких-то пятидесятых годов, да? Родители.
Л.О.: Ну да, пятидесятых. 54 мама и 58 папа.
Л.Р.: Ну поколенчески это одно и то же, да, по крайней мере, понимаете, есть вот такой водораздел, это мне когда-то... Я как-то об этом не думал, но это мне мой дружок писатель Сорокин как-то на это обратил моё внимание. А он меня на семь лет моложе. И где-то мы разговаривали, и он мне говорит: «Как тебе повезло». Я говорю, в каком смысле. «Ты помнишь день смерти Сталина». Я говорю, да что ж за везение такое. Он говорит, это очень важно вообще, это очень важный водораздел. Все, говорит, люди послевоенные делятся на тех, кто помнит этот день, и кто не помнит.
Л.О.: Ну а расскажите, как вы его помните, это же важный вопрос.
Л.Р.: Ой, я сто раз об этом писал. Но помню очень отчётливо. Мне шесть лет, коммуналка, мамы нет, я забыл, я лежу с ангиной очередной, я всё время болел ангиной. Но я уже выздоравливаю. А я, когда болел, мама когда куда-нибудь уходила, на кухню или за хлебом, у меня радио, меня развлекало радио, оно стояло рядом, радиоприёмник, который отец когда-то там из какой-то Риги привёз. В общем, какой-то рижский радиоприёмник, большая по тем временам роскошь. У меня всё время было включено радио, первый канал, и я всё время ждал детской радиопередачи, в 10 утра. А ёё нет и нет, нет и нет. И вместо этого какой-то Чайковский там, значит.
Л.О.: Траурные марши.
Л.Р.: Ну да, скука смертная, значит. И только голос Левитана, который я, конечно, знал, ну потому что он, в общем, его нельзя было не знать, что-то такое про Чейна-Стокса что-то такое рассказывал. В общем, какая-то скука. Потом пришла мама, пришла мама и говорит, почему-то она ничего не сказала ни про Сталина, ничего. Причём не мне, а бабушке моей, значит, пришла мама и бабушка тоже. И мама бабушке говорит, сейчас, говорит, я в аптеке, она уходила в аптеку, чтобы мне купить белый стрептоцид. Она от всего меня лечила белым стрептоцидом. Пошла в аптеку, там, говорит, эта несчастная стоит за прилавком, Софья Иосифовна, её там все знают, это такая аптекарша была, на углу, все её знают. И, говорит, вот эти стоят люди и говорят, она же нас сейчас тут всех отравит, гнать надо таких. Она, говорит, стояла, эта Софья Иосифовна, руки дрожат, она ничего не отвечает, молчит, не знает, что делать, вот. И мама тоже говорит: «Я стою в этой очереди и боюсь голову повернуть, потому что сейчас могут ударить или что-нибудь сказать, вот просто стою вот так вот и только вперёд смотрю». Вот. Потом пришёл старший брат из школы, ему 15 лет. Пришёл с каким-то очень траурным выражением лица, что ему очень не шло, потому что вот я ребёнок, я фальшь всегда понимал, да. У него какое-то было торжественное лицо, что ему было совершенно не свойственно, потому что он был такой смешливый, насмешливый и вообще такой весёлый. А тут, значит, такая морда, как будто он на пионерской линейке стоит. Я говорю, Миш, что такое-то. А он как-то почти как Левитан сказал: «Умер Сталин». И я от неожиданности как-то стал его передразнивать, как-то я стал повторять «Умер Сталин». Не потому, что я был такой антисталинист, а потому, что я какую-то фальшь в его интонации почувствовал. И он то ли от страха, то ли от чего ещё, он мне треснул по уху ужасно.
Л.О.: Это как известная же история, когда князь приходил в дом, ребёнку давали подзатыльник, чтобы он запомнил этот великий день.
Л.Р.: Что-то такое, да. Вот разница...
Л.О.: Мнемонически он вбил это в вас.
Л.Р.: Да, в общем, получилось так, да. Хотя он это не имел... Конечно, лучше это помнят, как какие-то мои товарищи, которые постарше... Вот я очень люблю почти киногеничный рассказ моего товарища, он года на три меня старше. В общем, мизансцена такая же, он слоняется по квартире, все же тогда в коммуналках жили, он слоняется по квартире, тётки на кухне воют, он не знает, что делать, скука страшная, какая-то скука. И ещё это нагнетание всей этой музыкой. Тогда же у всех эти репродукторы не умолкали ни на минуту, всё включено. И он ходит, он слоняется по этой квартире, не знает, куда себя девать. И он без стука входит в одну из дверей, а он привык в эту дверь входить без стука, потому что там жили две сестры, две, как ему тогда казалось, старушки, я думаю, им было лет по сорок, вот. В общем, такие две старушки, короче говоря. Одинокие. Ну не одинокие, в смысле, а бессемейные. Две сестры. Они его привечали, он к ним всегда приходил, они его конфетками угощали и давали полистать семейные альбомы фотографические, ему очень нравилось. И он зашёл, и прямо на пороге остолбенел, потому что он увидел, что эти две тётки, сёстры, в гробовой тишине вальсируют посреди комнаты. Потом он понял, что они радовались. Потому что потом, сколько-то лет спустя он узнал, что муж одной из них был расстрелян, а сын другой — в ссылке, в общем, и так далее... И они просто отмечали это событие, беззвучно абсолютно.
Л.О.: Тихим, беззвучным вальсом.
Л.Р.: Когда он мне это рассказал, мне показалось, что это кадр Германа какого-нибудь, правда? Похоже на что-то такое...
Л.О.: Ну это очень кинематографичная история, действительно, да. Ещё если это у Сокурова, дескать, одним кадром проезжать по всей коммуналке и заезжать в разные комнаты, и там будут вальсировать вдруг.
Л.Р.: Да-да-да, где-то по кухне всех рыдающих этих, да... Мама рассказывала, что когда это всё, значит, случилось, она мне говорила, что они все, конечно, были в каком-то ужасе, но больше было не горя, больше было паники. Особенно в такой городской еврейской среде, потому что считалось, мы знаем, что тогда было, вот это всё...
Л.О.: Дело врачей...
Л.Р.: И так далее. И то, что я сейчас рассказал, с Софьей Иосифовной, это всё оттуда. Когда все ожидали каких-то что ли депортаций, в общем, не понятно, чего, каких-то ужасов и погромов. Но считалось, считалось что Сталин это дело как-то сдерживает, такая была идея...
Л.О.: Плохие бояре и хороший Сталин.
Л.Р.: Ну примерно. Тогда хоть и шёпотом, но уже говорили, что Берия, как-то Берию боялись, что Сталин, к сожалению, под его сильным влиянием. Такая схема была.
Л.О.: После смерти Брежнева же боялись, что сейчас Америка немедленно нападёт.
Л.Р.: Война начнётся. А тогда тем более. Сталин был для очень многих такой пуговицей, на которой держался весь сюртук.
Л.О.: Коричневая пуговка.
Л.Р.: Да-да-да... Коричневая пуговка — это немножко другое, но в общем да... В общем, пуговка, на которую всё застёгивалось абсолютно, всё. И как это, как же жить-то дальше. Ну... Но при этом буквально через пару недель объявили, что врачи ни в чём не виноваты, это была тоже невероятная сенсация.
«7 января 1989 г. Наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором.
Почему-то в моем детстве взрослые часто говорили: „Он такой же специалист, как я японский император“. Это я услышал значительно раньше, чем узнал, что такое император и что такое Япония.»
Л.О.: В моём детстве Япония была японскими мультфильмами, которые тогда как раз стали появляться, вот все анимэ, для девочек — «Сейлор мун», для мальчиков — «Спиди гонщик», но для вас, наверное, Япония была чем-то другим в детстве.
Л.Р.: Чем-то другим, прямо скажем, врагом. Это еще длилось с довоенных времён. Япония была враждебным, конечно, такой, еще там всякие... С ними не воевали... Собственно говоря, потом и воевали.
Л.О.: В 45 году.
Л.Р.: Ну да. Друг у друга спрашивали мальчишки, значит, это такой тест был. Спрашивали, ты за луну или за солнце. Правильный ответ был «за луну», потому что «за луну» ответ был за Советскую страну, а вот если ты сказал «за солнце», то значит, за пузатого японца. О как. Так что плохо было за пузатого японца... Но уже позже к Японии стали относиться уважительнее, потому что «Samsung»...
Л.О.: «Panasonic» опять же, да.
Л.Р.: «Panasonic», стали продаваться японские нейлоновые куртки какие-то. Вообще все говорили, что Япония там значит, ... Это уже во время Оттепели.
Л.О.: Я кстати как человек, в своё время занимавшийся детским фольклором, слышал вариант «Показать, как дерутся японцы», и тут же следовал каратистский приём в ответ на эту подначку.
Л.Р.: Нет, мы про каратэ узнали сильно позже, но джиу-джитсу мы знали. Джиу-джитсу. Что японцы ещё умеют как-то так ткнуть тебя пальцем, чтобы ты...
Л.О.: Это же называется «ломка костей» по-японски, джиу-джитсу. И у Хармса есть рассказ «Ломка костей», где некий Вася едет в Японию учиться джиу-джитсу, и его там его японский сэнсэй по имени Курано очень быстро, одним пальцем превращает в желе, да, Вася уезжает из Японии, так ничему и не научившись.
Л.Р.: Да-да-да. Ладно.
«10 января 1863 г. В Лондоне открылась первая в мире линия метро.
Когда я спускаюсь или поднимаюсь по эскалатору, то всегда рассматриваю встречные лица — такая привычка. И всякий раз мне кажется, что лица тех, кто поднимается вверх, чуть более расслабленные и менее напряженные, чем лица тех, кто спускается вниз. Ерунда, конечно, но что-то в этом, наверное, есть.»
Л.О.: Метро ведь, оно было таким чудом, конечно, для детского сознания, наверное.
Л.Р.: Ещё бы, ещё бы. Значит, я долгое время называл эскалатор лестницей-чудесницей. Вот такое детское словечко.
Л.О.: Да, штамп такой. Не помню, откуда взялся.
Л.О.: Я думаю, из чьего-нибудь детского стишка, но так уже среди детей это водилось. И взрослые детям говорили. Слово эскалатор, наверное, считалось каким-то трудным, иностранным, лестница-чудесница детям нравилась. Дети поначалу, как и многие взрослые, боялись туда, значит, вступить, но в те годы, годы моего раннего детства, ездили и детей возили смотреть на новые станции кольцевого метро. Они были невероятно роскошные, дворцы такие. Вот эта Комсомольская...
Л.О.: Ну удивительно, что скоро уже 100 лет будет этому метро, станциям, это уже совсем такие антикварные дворцы. Осип Мандельштам спускался в подземку и смотрел на эти станции, тоже такой удивительный факт.
Л.Р.: Нет, это же задумано было не только как средство передвижения, но и как некий такой... Храмовое такое в этом было, да.
Л.О.: Да, да.
Л.Р.: Я помню, где-то...
Л.О.: Самое красивое метро в мире, как у нас любят говорить.
Л.Р.: Ну самое красивое метро в мире, да, самое глубокое. Но оно, кстати говоря, объективно говоря, очень, на самом деле, удобное. И оно много раз подтверждало свою какую-то такую качественность. Так что это Кагановичу, значит... Это его луковка, видимо, это метро.
Л.О.: Так оно же, кажется, только его имени, или он как-то его курировал, я уже не помню.
Л.Р.: Было его имени, конечно, это я даже помню.
Л.О.: Нет, имени помню, а имел ли он к нему какое-то непосредственное отношение, я не уверен.
Л.Р.: Он имел отношение, потому что был нарком этих самых, вот этого вот всего. Конечно. Нарком путей и сообщения. НПС, вот. И метро было имени его по этому поводу. Но оно вроде и как бомбоубежище вполне себя оправдало.
Л.О.: Но вот все эти истории, про то, что там есть секретные тоннели для правительства...
Л.Р.: Ну да, да. Эти легенды, по-моему, до сих пор существуют.
Л.О.: Они существуют, на них построено множество книг, в частности, вся вселенная книг Глуховского «Метро». А какие-то такие в советское время рассказывались?
Л.Р.: Обязательно, мама рассказывала не как о легенде, а как об известном факте, что, значит, как бы, в первую пару месяцев, может месяцев, а может лет, в общем, первое время войны, что правительство располагалось именно на станции Кировская, это теперь Чистые пруды. Где-то на станции Кировская были какие-то закрытые помещения, где сидело правительство, вот. Это так или не так — неизвестно. Но меня всегда с детства интриговали... Идёшь по метро, и там какая-нибудь, в переходе или где-нибудь, какая-нибудь красивая дубовая дверь, запертая. И вот эти двери меня невозможным образом интриговали. Меня всё время интересовало, что вот за ними. Понимаете. Дверь причём еще была не просто дверь, а вот такая дубовая, нарядная, я бы сказал, дверь. Мне всё время казалось, что за ними что-то интересное происходит. Может быть, чей-то кабинет, может быть, там вход куда-нибудь, может там какие-то залы. Вот. С люстрами.
Л.О.: Да, такой дверью по голове получить, между прочим, очень неприятно.
Л.Р.: Да-да-да. Вот. Нет, всегда подземка, конечно, ассоциировалась с тайной какой-то всегда. Я думаю, это именно потому что под землёй. Это была вроде такая модель нарядного ада, потому что моделью рая был ВДНХ. Я всегда... Мне казалось, это два такие сооружения, и то, и другое, значит, по части нарядности и красоты очень было продвинуто, но в ВДНХ всегда что-то чудилось небесное, а в метро — это, значит, такое инфернальное. Инфернальное, но очень красивое и торжественное. ВДНХ — это тоже сильное впечатление детства, конечно, было. Мне всегда казалось в детстве, сколько я там не бывал, навсегда запомнил, что над ВДНХ всегда чистое синее небо и яркое солнце. Я не помню, чтобы там дождь какой-нибудь был. Ну вот пятнадцатое. Пятнадцатое января — как раз это и будет половина месяца.
«15 января 2006 г. Впервые президентом Чили стала женщина — Мишель Бачелет.
У завуча Анны Дмитриевны были грубые, почти мужские руки — неухоженные и шершавые. Мы знали, что почти все свободное от школы время она копается в огороде. Вообще над ней смеялись.»
Л.О.: Ну по поводу завучей, да. Вот все эти женщины, которые сейчас стучат на школьников за то, что у них на аватарке украинский флаг или что они там что-то ещё сделали нехорошее, это они завучи.
Л.Р.: Завучи — это видимо какая-то, да... Было «завучиха» — было слово такое в школе. Да, мне они запомнились несколько... Хотя в моей школе, я учился в школе за городом. Есть под Москвой такое место, Тайнинка, там была школа номер 11, вот. Там был директор, директор еврей, между прочим, по фамилии Тёплинский, тёпленький, все жутко смеялись. Я когда в классе услышал его фамилию, я жутко хохотал, меня вывели из класса. В первом классе сразу, вот. А потом привыкли. Потом, когда говорили тёпленький, это уже не казалось ничем смешным, потому что он был такой грозный очень, его боялись. Семён Григорьевич, с бородавкой на носу. И два завуча было, мужчина и женщина. Мужчина был Дронов Иван Тихонович, совершенно такой деревенский человек, он преподавал историю и говорил «лобовладельческое государство», у него никак не получалось «рабовладельческое». И он такой был... Он не вредный был, но он такой дураковатый, значит. Но он упорно, не знаю, почему, на уроках меня называл Гуревичем, а не Рубинштейном, не знаю, почему. У него, видимо, был какой-то на меня похожий и тоже еврейский человек, я его поправлял, потом мне это надоело, и я откликался просто. Гуревич так Гуревич, какая разница.
Л.О.: Ну это же классическая довлатовская история, что запомнил только, что еврей.
Л.Р.: Вот-вот-вот, вот он тоже.
Л.О.: Когда у кого-то отчество спутали и называли Моисеевич вместо...
Л.Р.: Да, вместо Соломоновича. И была Юлия Михайловна. Это была такая совершеннейшая Ильза Кох, была такая свирепейшая тётка, она преподавала физику. Она такая была, по воспоминаниям, даже вроде красивая, и с очень, я запомнил, с ухоженным очень руками, с красивым маникюром, но совершеннейшая какая-то фурия. У меня с физикой как-то не очень складывалось всегда, это ещё усугубляло. И однажды был какой-то пятый класс, шестой. А я всегда был очень вертлявый, болтливый вообще, я и сейчас не слишком усидчивый, а тогда и вообще было что-то совсем. Я настолько сильно вертелся, что предыдущая учительница физики, как раз хорошая, называла меня перпетуум мобиле, а учительница географии называла меня круговорот воды в природе. А эта Юлия Михайловна однажды, я запомнил на всю жизнь, это не мудрено, потому что на меня так схватила за ухо однажды, что у меня кровь пошла.
Л.О.: Ногтями то есть, ногтями.
Л.Р.: Чёрт его знает. Тогда мне показалось, что она мне его оторвала. Я думаю ногтями, да. Я жутко испугался, она тоже, конечно. Ну вот такая она была, да. Юлия Михайловна.
Л.О.: Да это вот такая история абьюза, как сейчас бы сказали, и совершенно правильно бы сказали.
Л.Р.: Да. Директора и директрисы, видимо, были слишком высоко для нас, видимо, они были отчасти небожители. Их тоже побаивались, они были тоже зло, вообще говоря, но не такое непосредственное.
Л.О.: Я между прочим сейчас читаю своим детям понравившуюся мне в детстве советскую повесть «Шёл по городу волшебник», написанную Юрием Томиным. Написанную в 1963 году про мальчика, который нашёл коробок волшебных спичек и загадывал там вещи от ста порций мороженого до «хочу стать лучшим хоккеистом в мире», ну такие вполне специфические советские у него желания. И они стали недоумевать в том месте, где было сказано, что директора все боялись, он мог кого угодно исключить и так далее. Почему боялись директора, мои дети сейчас не понимают.
Л.Р.: Ну в общем, мы сейчас как бы, действительно... Это был первый наш подкаст, мы прощаемся, это было 31 декабря, то есть последний день довольно страшного, прямо скажем, 22 года, вот. Остаётся нам всем пожелать, что следующий год будет легче, не таким ужасным, не таким кровавым, не таким мучительным, что многие из тех, кто оказался в разлуке друг с другом, будут либо чаще видеться, либо вообще будут вместе снова. Поздравлять настроение прямо скажем не очень праздничное, но всё равно скажу — с новым годом.
Л.О.: Да, мы всё-таки продолжим листать календарь, так что до следующей встречи.

