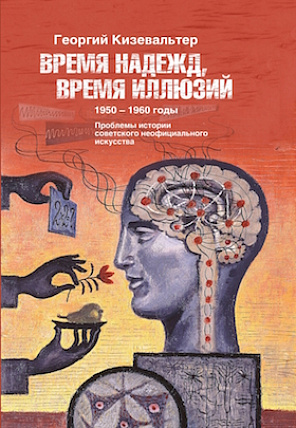Неофициальное искусство в СССР
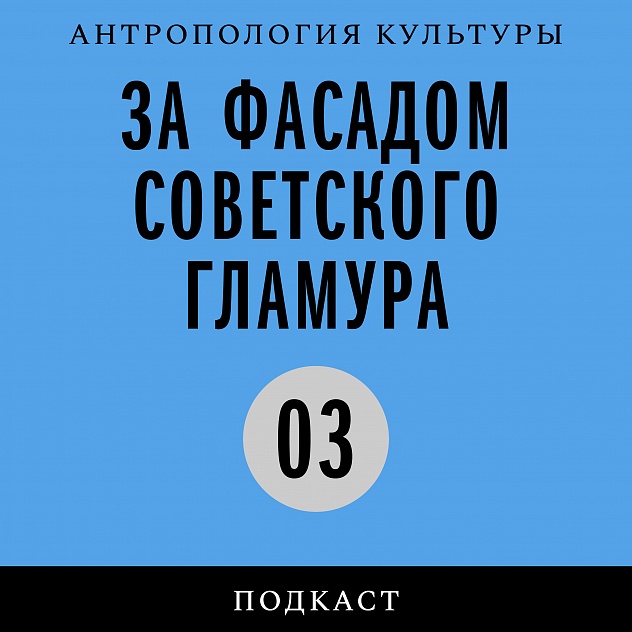
Подкаст ведет: Ирина Прохорова.
В гостях: Георгий Кизевальтер, Вадим Алексеев.
Как воспринимались картины и скульптуры «неофициалов» в советское время в СССР и на западе? Как иностранные журналисты получали информацию о том, что происходит в среде советского андерграунда? Как деятели арт-подполья после крушения СССР встроились в мировой художественный процесс, арт-рынок? Кто в России сегодня наследует той культуре? И что ждет искусство в России в будущем?


Георгий Кизевальтер, художник, писатель, представитель московской концептуальной школы.

- 00:01:27 Представление гостей
- 00:03:29 Вписана ли неофициальная культура СССР в историю культуры XX века в России?
- 00:12:00 Как западная художественная журналистика воспринимала советское неофициальное искусство?
- 00:14:27 Об условности оппозиции «официальное»/«неофициальное» в советской культуре
- 00:18:16 Советское неофициальное искусство и мировой контекст
- 00:21:48 Откуда советские художники узнавали о мировых художественных трендах?
- 00:23:07 Судьба художников-эмигрантов
- 00:30:36 Неофициальное искусство и вызов открытого мира
- 00:41:30 Владимир Немухин о богеме начала 60-х
→ Читать полностью
«НЛО Медиа» представляет «За фасадом советского гламура».
И. П.: Добрый день! Это подкаст «За фасадом советского гламура», и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», — его ведущая. В нем мы обсуждаем те стороны нашей истории, которые обычно оказываются скрытыми за лоском официальной советской идеологии и пропаганды. Советские риторика и эстетика оказались чрезвычайно живучи. Они до сих пор во многом формируют наш образ прошлого. Чтобы разобраться, как действительно была устроена советская система, мы хотим обратиться к реальному опыту жизни советских людей и их повседневным практикам. Я надеюсь, что такой антропологический взгляд на советскую историю поможет нам лучше понять и проблемы современного российского общества.
Сегодня мы поговорим о неофициальной культуре в СССР, формах и институциях ее бытования, как вообще жили художники, как мы смотрим на вот то, что можно назвать «советскую богему», с нынешней точки зрения, насколько их опыт и быт, оказывается, сможет быть актуальным в нашем сложном положении. В общем, такой большой круг тем, которые мы постараемся вновь поднять и обсудить. И сегодня с нами гости, хочу представить их. Георгий Кизевальтер, художник-концептуалист, фотограф, автор объектов и инсталляций, эссеист, один из основателей группы «Коллективное действие». Георгий, здравствуйте.
Г. К.: Добрый день.
И. П.: А второй наш гость — Вадим Алексеев, филолог, историк искусства, исследователь неофициальной советской культуры. Вадим?
В. А.: Здравствуйте, Ирина Дмитриевна. Здравствуйте, Георгий.
И. П.: И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Ну вообще уже давно повелось, что мы наши разговоры строим вокруг каких-то важных книг, которые недавно вышли в России. И вот, собственно говоря, два участника нашего разговора являются и авторами двух свежих книг. Это, прежде всего, книга Георгия Кизевальтера «Репортажи из-под-валов» или «из подвало́в» иногда можно прочитать, потому что это явная отсылка, так сказать, обыгрывание «Из-под глыб», из подвалов. И книга Вадима Алексеева «Идеально другие. Художники о шестидесятых». Так что, в общем, темы похожие, и мы будем, наверно, как-то периодически адресоваться к вашим книгам, обсуждая проблемы восприятия неофициального искусства, неофициальной культуры в СССР.
Вы знаете, ну я хотела вот спросить, начать, прежде чем как бы попрошу вас описать еще раз быт и формы бытования этой неподцензурной культуры, вот смотрите, с одной стороны, вроде бы в последнее время выходит довольно много книг. Ну и Георгий Кизевальтер вот выпустил несколько книг — имею честь быть его издателем, — связанных с нонконформистской культурой. Вообще и собрания сочинений уже классиков андеграунда проходят. Какие-то аналитические работы. И, казалось бы, корпус уже текстов об этом, об андеграунде, довольно много. Но у меня почему-то есть ощущение, что эта такая мощная культура — она все равно как-то не вписана в некоторую уже нормативную историю, скажем, культуры XX века в России. Правильно ли мое ощущение? То есть есть, с одной стороны, работы, есть еще живущие художники, но какое-то ощущение, что эта культура как вот стояла особняком, так она и продолжает быть. Вот что вы бы могли сказать по этому поводу? Справедливы ли мои какие-то замечания и рассуждения на эту тему?
Г. К.: Мне кажется в последнее время, что вообще тема неофициальной культуры, с одной стороны, она как бы в нашем XXI веке совершенно не актуальна. Это как бы дела минувшие того столетия, и, по сути дела, мы рассматриваем шестидесятников — уже прошло, в общем, шестьдесят лет примерно. С другой стороны, ведь все современное искусство, которое сейчас у нас имеется, оно вышло всё из этой неофициальной культуры. И было в значительной степени сформировано теми принципами и эстетическими какими-то парадигмами, которые существовали вот в те годы. Этот парадокс, он переходит и на исследования, потому что, как правило, мы видим, что выпущена была масса альбомов по художникам по отдельным, монографии, которые, ну, наверное, специалисты все, там, прочитали. Я не говорю о широкой публике. Вряд ли, так сказать, все уж прям ознакомились с этим. Но при этом остается до сих пор масса каких-то лакун таких, невыясненных обстоятельств, просто белых пятен, которые приходится вот вскрывать в процессе работы над архивами, и вот в этом плане мне кажется, что… Я посмотрел, например, книгу Вадима — и мне кажется, что она очень интересная, потому что она охватывает такой пласт материалов, которые, в общем-то, уникальны совершенно. И то, что там можно прочитать, раскрывает совершенно иную картину как бы и взаимоотношений, и просто жизни того времени, чем то, что мы часто видим и в современных фильмах… Я иногда вот смотрю фильмы о не только, там, шестидесятых. И о пятидесятых, и сороковых. Думаю, ну полный… Иногда какой-то там… Ляпы — полно. Чисто исторических таких вот. Но тем не менее. Например, вот интервью с Лидией Мастерковой, которое, как я понимаю, является центральным в этой книге, действительно уникальное, потому что эта художница, ну, она, по-видимому, вообще стремилась по жизни к уединению, к как бы отстранению от широкой публики, и за счет того, что она рано уехала, в 1975 году, практически здесь она никому особо и не известна. То, что она рассказывает… Вообще, то, что рассказывают и другие художники, откровенно, и это всегда намного ценнее, чем то, что пишут искусствоведы. Потому что понятно, что каждый искусствовед преследует свою идею, как преподнести того или иного художника. У него есть свой взгляд, и он под этот взгляд подгоняет все как бы известные ему факты.
И. П.: Вадим, ну а ваша точка зрения? Знаете, почему я, собственно, задаю этот вопрос? Смотрите, как бы сложилась уже некоторая традиция, когда… И о чем, кстати, вы, Георгий, в книге своей подчеркивали. Что как бы неподцензурное искусство всегда рассматривалось с точки зрения политической прежде всего. Но насколько… Ну хорошо, вот те, кто были, там, независимые художники — заведомо, значит, это хорошо. Официальное — это вроде бы, значит, плохо, вот, служит государству. Ну я немножко упрощаю картину, но, во всяком случае, это был водораздел, во многом, может быть, инспирированный художниками-нонконформистами. Но насколько сейчас подобные водоразделы, как бы конструктивно они работают? Вот, грубо говоря, история искусства XX века, где все перемешано. Официальное, неофициальное, компромиссное, бескомпромиссное. Вообще какие-то критерии находятся, чтобы оценивать это с точки зрения, вообще-то, значимости? Не только в плане политическом, но, я бы сказала, эстетическом. Вадим, как вы считаете? У меня есть ощущение, что этого нету. То есть не создается пока и не создано хотя бы какое-то концептуальное, я не знаю, поле, где можно было бы уже — все-таки прошло очень много времени — каким-то образом реально оценить, а вот что́ происходило. Ведущие художники, не ведущие, недооцененные, переоцененные. Ну все-таки какие-то критерии-то ведь должны быть.
В. А.: Вы знаете, я думаю, что сейчас все-таки подпольные художники 1950-х — 1960-х годов совершенно вписаны в историю культуры, и не только лондонскими аукционами, из которых пошел такой ажиотаж и большие выставки в Третьяковке, в Пушкинском музее, в музее Церетели. И они уже не воспринимаются совершенно, тем более новым поколением, для которых это абсолютная мифология, не воспринимаются как художники антисоветские, а по-моему, воспринимаются просто как художники — продолжатели своих учителей, потому что многие ведь из них учились у забытых художников 1930-х. А кто-то застал и учеников Малевича. Скажем, будущие «лианозовцы» учились у Перуцкого, Хазанова и даже Фалька. Это всё художники 1930-х годов, забытое поколение, ну, кроме Фалька, конечно. И это, по-моему, была совершенно замечательная связь вот этого разрыва времен, который произошел при Сталине. Эта связь восстановлена и донесена до нас. Ну, мне так кажется, по крайней мере. А что касается будущего, то я бы не делал такой раздел, разрыв между художниками официальными и, скажем, неофициальными, скажем, левым МОСХом. Левый МОСХ — это Попков, братья Никоновы, Андронов, то есть то, с кем, собственно, боролся Хрущев на Манежной выставке. Я думаю, что в будущем, скажем, картины Рабина будут висеть на одной стене с картинами Попкова. Почему нет? И. П.: Да, но вот они пока удивительным образом не висят. И это поразительно, потому что мне кажется, что все-таки опыт наш советского времени — это уже какая-то действительно дистанция, казалось бы, должна была заставить нас посмотреть, ну, правда, выбрать другую какую-то оптику для вообще степени оригинальности того, что делалось в неофициальном. Ну как бы художники соединяли официальный образ жизни и неофициальный, как мы понимаем. Понимаете, почему я все время пристаю к вам? Ну, например, книжка Георгия Кизевальтера мне очень важна, потому что он фактически дает срез, такой обзор концептуальный, что писала западная пресса о, значит, неподцензурной культуре. И, собственно, это такое, ну, правда, это история искусства неподцензурного, потому что мы понимаем, что в Советском Союзе, кроме погромов периодических, ничего в прессе, в общем, накопать невозможно. Но ведь очень интересно, что… У меня такое ощущение, что репутации во многом художников многих вот сложились ровно под влиянием этих репортажей. Вот о чем писали. И в данном случае, мне кажется, ведь никто и не пересматривал это. В каком-то смысле этот канон был и создан западной журналистикой. И мы как бы это воспринимаем как некоторое должное. Но ведь во многих этих репортажах, кстати говоря, там и были какие-то иронические и критические вещи. Например, что да-да, это, конечно, вот там художники живут в этих подвалах и так далее, но очень мало талантливого — кто-то там писал, да, и несколько. А вот как к этому относиться? Насколько это было справедливо, насколько несправедливо?
В. А.: Вообще перекос в сторону политизированности, антисоветскости, он, конечно, сыграл очень плохую роль. Я думаю, что очень многие художники, — скажем, я прекрасно помню, как ужасался этому Владимир Янкилевский, — очень жалели о таком восприятии и в первую очередь о восприятии на Западе, когда в перестройку раскрылись двери, раскрылись границы и уже на них был наложен штамп как на художников-антисоветчиков. Тогда, скажем, клише было — назвать Оскара Рабина «Солженицыным в живописи». Но это, конечно же, не так. Но, с другой стороны, роль иностранных корреспондентов… А книга Георгия действительно очень интересна. Я прочел внимательно все эти статьи, о которых мы знали только по доносившимся именам корреспондентов, как Питер Оснос или Хедрик Смит. Они же действительно дневали и ночевали в подвалах и на чердаках у художников и были связью с внешним миром как для художников, так для диссидентов, так для фарцовщиков, то есть для всего того неофициального мира, который тогда сложился в 1960-е годы.
И. П.: Георгий, вам слово.
Г. К.: Я хотел сказать, что вообще здесь очень много парадоксов. Во-первых, мы говорим о неофициальных художниках, и при этом практически все они работали как официальные художники. То есть они на самом деле вот существовали в двух мирах, и поэтому их можно назвать и такими полуофициальными, потому что они не признавались официальным МОСХом и их искусство отвергалось официальным истеблишментом. Но что касается вот темы этой книги, репортажей, там действительно важно то, что мы получаем как бы другую точку зрения все-таки, смотрим на себя как бы другими глазами, глазами вот этих корреспондентов, которые часто описывают, может быть, похоже, но несколько под другим углом, или они дают какие-то такие комментарии, которые открывают совершенно иные стороны и события и творчества того или иного художника, и, кроме того, просто вносят те детали, которые, скажем, наши художники или наши специалисты и не видели, и не могли знать, и это было, в общем-то, для меня во многих случаях такими большими, важными открытиями, потому что мы можем, сопоставляя какие-то точки зрения, уже известные нам, опять складывать такую мозаику из разных источников.
И. П.: Нет, ну вот, собственно говоря, если в сторону отставить идею политического противостояния, а вот то, что многие западные эксперты, фактически журналисты, писали вполне себе, что это многое вторично, что там два-три имени интересных, остальные — это, в общем-то, и не очень талантливые, тогда как внутри страны критерии какие-то были другие, по принципу: «Старик, ты гений?» Это как бы было бесконечно. Вот здесь мне интересно: ну журналисты же исходили из какого-то более широкого художественного контекста, в который они были включены, а художники были выключены, они не могли видеть… Вот, строго говоря, вот что меня интересует: насколько справедливы, никак не умаляя вообще выбранный способ выстраивать себе территорию свободы, насколько справедливы были эти оценки эстетические?
Г. К.: Ну, конечно, с точки зрения развития искусства многие художники как бы за счет того, что действительно вот, как вы сказали, они были отрезаны от всего остального мира, они не могли ни видеть того, что происходит на Западе, с одной стороны, а с другой стороны, они не получали адекватной оценки на самом деле их работ, потому что те, кто приезжали, конечно, либо говорили вежливо: «О, как здорово!», — и как бы даже покупали у них как сувениры эти работы и увозили с собой… Дома часто это просто висело где-то там на кухне или на чердаке, но дело не в этом даже. А в том, что в истории модернизма очень важен был всегда момент времени появления. То есть контекст. Как бы ты сделал эту работу, там, в 1940 году — всё, ты чемпион, так сказать, уже, и имя твое занесено в историю искусства, а если ты повторил работу, которая была сделана в 1940 году, в 1960-м — значит, особенно это ни у кого интереса уже не вызовет.
И. П.: Ты уже эпигон в каком-то смысле.
Г. К.: Да. Поэтому иностранцы часто приезжали сюда, смотрели на того же Янкилевского, прекрасно видели его корни, там, откуда срослось все это, смотрели еще на кого-то — тоже, там, понимали это. Но тем не менее мы видим, что какие-то художники-шестидесятники, они прорвались вот сквозь эти десятилетия и, скажем так, остались все-таки в искусстве. То есть они не потерялись в тех временах, а другие вот потерялись. То есть я хочу сказать, что то, что вот мы видим сейчас, то, что Вадим перечислил, там, Штейнберг, Сурков и периодически выставляющиеся другие художники, конечно, их остается с каждым годом все меньше и меньше уже живых, но так или иначе. И вот мы смотрим сейчас на многие работы Штейнберга уже по-иному. Смотрим как на какие-то прорывы очевидные в, скажем, такой интерпретации мира, что ли. И здесь все зависит от оптики, которую мы используем при анализе. Я просто помню свои впечатления в 1970-е годы, 1980-е и так далее. Это совершенно разное восприятие, потому что восторженное восприятие первого времени, оно сменяется потом критическим и таким уже отстраненным взглядом. А потом через, скажем, десять лет вы опять приходите в мастерскую этого художника и думаете: «А что… Ведь это здорово тоже». То есть как бы мы опять возвращаемся к тому же, может быть, по гегелевской спирали или нет, но так или иначе, но уже на другом уровне мы смотрим, что, оказывается, там есть много интересного и прекрасного. Поэтому я думаю, что и сейчас эти художники, ну, понятно, что не все, но многие, они могут восприниматься с очень большим удовольствием.
И. П.: Да нет, я в этом не сомневаюсь. Просто понимаете, как? Ну вот проблема изоляции страны… К сожалению, эта проблема вдруг неожиданно возникла и в наше время. И она возникает — это как бы для творческих людей ведь может встать вот этот же самый вопрос: каким образом можно продолжать работать, будучи в изоляции, не видя вот этого большого, широкого контекста художественного, достижений, потому что очень важно же понимать, где ты находишься и где само искусство, не важно, литература и все прочее, в данный момент, чтобы не изобретать велосипед. Ну вот насколько — мне всегда было интересно — насколько все-таки эта изоляция, она не была, конечно, стопроцентной, но никакого системного знания художники получить не могли о том, что происходит на Западе… Это вот как раз Вадим в интервью — там же все время возникает: как добывалась эта информация, где они видели картины — в каталогах, не очень понимая размеры даже картин, потому что, ну, неясно. Понятно, что цвета — ну как воспроизводство иллюстраций, мы понимаем тоже. И вот эта попытка мозаику эту собрать — мне кажется, что это, во-первых, героическая какая-то история все-таки, интеллектуальное напряжение, все-таки хотя бы придумать себе этот самый Запад и попробовать встроиться в него. Но при этом это все-таки очень драматическая ситуация, которую, конечно, бы не хотелось, чтобы повторяли художники, потому что ну вот правильно вы сказали — ведь многие пропали. И пропали не потому, что они не талантливые, а потому, что условий для дальнейшего развития просто у них не оказалось. Может быть, мы поговорим о каких-то реальных судьбах? Ну, например, вот и у Георгия, и, Вадим, у вас в книге очень много эпизодов, когда люди, например, художники, не вынося, так сказать, бесконечных либо преследований, либо невозможности свободно творить, уезжали. И, как мы знаем из истории многих судеб, в общем, очень многие как-то растворились без следа, хотя вроде бы они подавали большие надежды как талантливые художники. Вот что происходит в такой ситуации? Вот человек уезжает ну как бы за свободой, что прекрасно. И что происходит дальше? Мы понимаем, что вот вольница, люди ходят друг к другу, выпивают… Мы еще поговорим об этом, о таком абсолютно богемном и прекрасном образе жизни. Они уезжают на Запад, где, наконец, они могут раскрыться. И что же дальше происходит?
В. А.: Вы знаете, мне кажется, на Западе каждый выживает сам по себе. Здесь все-таки этих людей связывала общность судьбы, и у них у всех была разная и жизненная история изначально, и разный художественный язык, и, собственно, волей-неволей то, что все они оказались здесь в одном подвале, их и связывало. Потом все разбежались. Будь то кто уехал на Запад, будь то с наступлением перестройки, потому что ведь на Западе художники не собираются вместе, а каждый творит один, как в башне из слоновой кости. И, конечно же, у людей, уезжавших в 1970-е годы, не особенно сложилась западная художественная судьба, потому что, к сожалению, они все были связаны вот этой вот антисоветской историей. Выставлял их в основном Александр Давидович Глезер, знаменитый наш популяризатор искусства. Все это проходило под маркой «Солженицын в живописи». А на Западе надо выставляться по стилям, наверно. И стиль для современного западного зрителя или критика был, конечно же, безнадежно устаревшим. Может быть, тогда могла как-то выдвинуться группа Нусберга, кинетическая группа, которая владела современным для 1960-х, скажем, годов художественным языком, но этого тоже не произошло, потому что тут тоже кто-то уехал, кто-то остался… Но я хотел бы немного вернуться немножко раньше и поговорить о необходимости вообще вписанности вот этой нашей послевоенной культуры в международную. По-моему, это не обязательно, потому что, в общем-то, это русская история, как, скажем, русская история Блок или Врубель. Это же исключительно русские гении, неизвестные в мире. И то же самое здесь, потому что, в общем-то, послевоенное наше искусство, как мне кажется, складывалось из послевоенной нищеты. И опять-таки их учителя, вот эти забытые совершенно нищие художники 1930-х годов или позже открытые художники 1920-х, как, скажем, Иван Кудряшов, выдающийся ученик Малевича, может быть, в чем-то опередивший Малевича, который жил тридцать лет на чердаке, пока его не нашли там Немухин с Мастерковой, не представили Георгию Дионисовичу Костаки, который купил у него все его старые работы и прославил.
То, что касается настоящих западных критиков и искусствоведов, то они приезжали, но они приезжали в конце 1950-х годов, но, конечно, в поисках авангарда — авангарда того, великого русского авангарда, который тогда, может быть, с 1962 года, с выхода книги английского искусствоведа Камиллы Грей, открылся миру. Вот за этим действительно гонялись, а соответственно, художников молодых, художников современных смотрели как, может быть, возможность попасть к вдовам старых авангардистов и вот что-то в этом роде. Но это мое мнение. И потом, скажем, почему я свою книгу сделал книгой бесед? Для меня очень важен именно живой голос художника, из которых, из этих пятнадцати голосов, там не только художников, там есть два собирателя, как композитор Андрей Волконский и тот же Александр Глезер, вот и складывается такая вот панорама этой жизни 1950-х — 1960-х. Я не стал переписывать, не стал писать свое, добавлять многочисленные «измы». Мне кажется, что и читателю интереснее читать истории, которые, в общем-то, как у любого мемуариста, они все противоречат друг другу, хотя все, естественно, были друзьями, и одни и те же события, та же знаменитая «Бульдозерная выставка», освещаются совершенно с разных сторон. И потом, мне самому как-то, когда я уже перечитываю книгу, я слышу живые голоса, мне это чрезвычайно важно, поскольку опять-таки завершаю, что это искусство складывалось из московской жизни. Кто-то открывал для себя польские журналы, кто-то — забытые книги 1920-х в Иностранной библиотеке или в Ленинке. Кто-то потом получал книги у дипломатов или тех же корреспондентов, но все равно это было у каждого свое, закрепление своего какого-то выстраданного художественного языка.
И. П.: Знаете что? Сейчас, Георгий, дам вам слово с этим. Я просто хотела прокомментировать. Слушайте, ну, конечно, не то что бы обязательно, чтоб всех местных гениев знали, так сказать, по всему миру. Но дело не в этом. Если все-таки говорить о нашем великом русском авангарде, мы не забудем, что он возник в период, ну, все-таки когда Россия стала открываться миру. И не забудем, что, в общем, авангард появился в результате того, что тот же самый Щукин и Морозов стали, помимо того, что они, значит, как бы стали наших художников пытаться продвинуть там, они же привозили и огромное количество выставок западных. То есть они вот этот контекст мировой пытались создать и показать художникам вообще, что происходит в современной западной жизни. После этого, соответственно, появился авангард, который уже переосмыслил какие-то тренды, какие-то течения общеевропейские. Вот ситуация неподцензурной культуры складывалась немножко в других условиях, куда более жестких, потому что ну да, уже такого занавеса, там, сталинского не было, но тем не менее, как мы говорили, что какую-то картину создать жизни мирового искусства было довольно сложно. И поэтому здесь много было, конечно, и фантазии, и, с другой стороны, ну вот что-то такое делалось оригинального, а что-то просто, ну, как ученичество, все-таки попытка найти какой-то новый стиль. Вот интересно мне как раз вот, что, как происходило? Часть людей уезжала, там, в 1960-е, 1970-е. Один из первых, по-моему, был Михаил Гробман, который уехал в Израиль и как-то там оказался вполне себе одной из центральных фигур. Вот, с одной стороны, в советское время часть уезжали, а потом, когда началась перестройка и распался Советский Союз, здесь оказалась вообще возможность свободного какого-то творчества. Так вот, этот вызов открытого мира, он как-то, как был воспринят художниками?
Г. К.: В 1970-е годы процесс был просто колоссальным таким ударом по нашему сообществу, когда каждый год отъезжали, в общем, десятки художников в разные страны, и их судьбы отличаются от тех, кто уехал вот в перестройку или, там, в 1990-е годы, в начале 1990-х. Но практически всегда это было очень тяжелое испытание. Если только это были не Комар и Меламид, которые очень хорошо подготовили себе почву для приземления, плацдарм, устроив выставку одного из крупнейших галеристов Америки Рональда Фельдмана, еще находясь здесь, то у остальных жизнь не складывалась, конечно, так здорово, и им приходилось, как говорится, идти выполнять любую там работу или какие-то там делать дурацкие заказные работы, которые им совершенно не соответствовали. И, ну, хорошо, скажем, если вспомнить, там, Косолапова или Сокова — за счет интереса к советскому искусству в перестройку они сумели вскочить все-таки на коня и поскакать дальше уже на более удачной скорости. А другие тоже не сумели — я имею в виду тех эмигрантов, которые вот уехали в 1970-е. Они тоже не сумели никуда вскочить и так и остались в положении каких-то там — второй, как говорится, сотни, и где-то там что-то они выставляли изредка. Та же вот Лидия Мастеркова, которую мы вспоминали, у Дины Верни. А потом это как-то все потихоньку скатывалось в никуда. И те, кто уехали в перестройку, тоже — они ехали как раз вроде бы удачно. То есть в этот момент был огромный интерес, восторженные отзывы, выставки по всему свету и так далее, и так далее. И действительно два-три года все шло хорошо. А потом один из художников, я не буду его сейчас называть, он вспоминал, что потом приходилось продавать просто какому-нибудь соседу по подъезду работу за двести долларов, лишь бы купил, потому что не на что вообще уже ни купить ни материалов, ни есть не на что. В конце концов девяносто процентов уехавших вернулись обратно.
Запад, конечно же, выбрал несколько человек, скажем так, которые и являются по сю пору представителями такого вот советского искусства неофициального. Ну, наверно, это не будет откровением, если я скажу, что это Кабаков, Булатов, Гриша Брускин и Борис Михайлов. Ну, еще там пара художников. Да, ну и Комар и Меламид — они уже как бы являлись к тому времени такими классиками, поэтому я как бы не включаю их в эту обойму. Так что, конечно, перенос как бы своего дома на другую почву не всегда складывался хорошо для художников. Это всегда было испытанием и с точки зрения искусства, потому что мы здесь, находясь вот за этим железным занавесом, ну, жили в каком-то таком идеальном мире…
И. П.: С какой точки зрения идеальном?
Г. К.: А вот с какой, я скажу. Здесь и как бы уже, там, в канве новых каких-то течений воспринималось как откровение или, во всяком случае, все друг друга поддерживали, там, говорили: «Ой, как здорово! Это гениально». То, что вы уже вспоминали. А там галерист, который тебя выставляет, говорит, что мне нужны работы. Мне нужно каждый месяц, там, по две-три работы. И художник становился таким, в общем, производителем как бы новых и новых работ, которые, по сути дела, повторяли всё то, что он уже наработал здесь, в СССР, чаще всего. Поэтому, в общем, очень редко мне нравились работы вот наших звезд, которые я видел, сделаны были там, на Западе.
И. П.: Ну вот знаете, что важно? Это как бы институциональное существование искусства. Очень важно. И вот то, что и у Вадима в интервью, и у вас в анализе, значит, западной прессы — очень видно же, принципиальна разница была. Ну, те многие художники, которые, ну, в общем, так сказать, вот нонконформисты, при этом они могли быть, там, членами МОСХа, например. А если они это были, они продавали какие-то там картины уставные и, в общем, имели хороший заработок, потому что государство закупало эти самые картины по приличным ценам.
Г. К.: Заказывало даже.
И. П.: Даже заказывало. Но это много же… История, там, слепил трех Лениных — получаешь прекрасный гонорар, а потом нетленкой занимаешься. И давали как бы мастерские даже часто. То есть это какая-то была ситуация довольно странная: с одной стороны, государство совершенно не хотело, ну, как-то уступать свои идеологические позиции, и все эти «бульдозерные выставки», и это, в общем, какое-то упорствование невероятное. С другой стороны, ну вот часть художников могла выкраивать себе достаточно безбедное существование для творчества. Были и другие, которые были абсолютно нищие. Они просто не хотели принципиально никуда вступать. Но, как ни странно, вот эта ситуация совершенно не похожа была на институциональное устройство культуры за границей, что, мне кажется, было болезненно для художников. Вадим, вы хотели что-то возразить.
В. А.: Вы знаете, мне кажется, все-таки стоит разделять — есть одни шестидесятники, есть другие. И потом, 1960-е, а 1960-е — это, в общем-то... 1950-е годы и 1970-е сильно различаются. Человечески в том числе. Скажем, те художники, с которыми был близок я и о которых писал, с которыми встречался, они в основном не были членами МОСХа, и, когда появился так называемый иностранный рынок, который позже художник Валентин Муравьев назовет дип-артом, то есть, когда появились дипломаты, корреспонденты, отчасти даже академики, потому что многие физики, которым было больше разрешено, чем всем остальным, поскольку они делали бомбы тоже, покупали картины — это считалось модным. Но дипломаты, естественно, платили больше, и, в общем-то, многие прекрасно жили за счет этого западного, в рамках Москвы, конечно, рынка. И, собственно, в их подвалах, которые никакой МОСХ не давал, а тогда можно было вполне легко за взятку у управдома получить подвал в центре Москвы. Можно было ходить, выбирать, самому его отремонтировать, и подвалы были в каком-то смысле центром московской жизни, потому что там было гораздо интереснее, чем в Доме литераторов. Там собирались и поэты, и манекенщицы, и иностранцы, и фарцовщики, и уголовники. Кто только не собирался. Это действительно была настоящая жизнь. Безусловно, в ее центре была фигура Анатолия Зверева, сейчас безумно известного в связи с музеем, многочисленными выставками, а еще двадцать лет назад на него как-то смотрели так, очень косо. Все говорили об Илье Кабакове и, соответственно, о тех, кто шел в его фарватере. И вот как раз круг Ильи Кабакова — это люди, получавшие мастерские и состоявшие в Союзе художников, и имевшие приличный заработок за счет иллюстрирования книг в первую очередь и в свободное время, либо же, наоборот, в свободное время от живописи были заняты иллюстрацией книг или наоборот. И. П.: Кстати, замечательные иллюстрации детские. Вообще отдельная тема, когда прекрасные художники зарабатывали тем, что они иллюстраторы детских книг, и Пивоваров в том числе, и масса других. Так что, в общем, в этом смысле это было удивительно — как советским детям повезло.
В. А.: Ну это был немножко уже другой круг, и со временем разрыв увеличился. С одной стороны, Эдуард Штейнберг изначально был из такой богемной компании. Потом скорее ему была интересна, конечно, компания Кабакова, компания, собиравшаяся у него в мастерской на Сретенском бульваре. Другой круг и другой мир. Мне, честно говоря, всегда был интересен тот мир, более ранний, мир ранних 1960-х, мир старой московской богемы, которая была какой-то связью с тем, что было и до войны, и что было до революции, потому что, безусловно, они застали старую Россию, и, в общем-то, в чем-то все это передавалось. Сейчас этого, конечно, уже ничего не осталось, вот той атмосферы.
Досказываю. Я хорошо запомнил фразу композитора Андрея Волконского, который тоже очень рано уехал и очень об этом жалел, потому что здесь он был невероятно знаменит, на его концерты ломились, но в Европе он оказался никому не нужен. Он мне говорил, что, конечно же, такой атмосферы, как в Москве, того времени, как в Москве конца 1950-х и, значит, и хрущевского времени, он не видел нигде и никогда она больше не повторится. Это было совершенно что-то уникальное.
И. П.: Да, но это всегда интересным образом воспроизводится. Но я не могу не зачитать кусочек из интервью с Владимиром Немухиным, которое вы делали. Он как раз описывает вот эту самую богему начала 1960-х, когда, в общем, люди жили в большой бедности. Недаром все эти… Лианозовская поэзия, эти бараки. Это все реально было места жизни. «Помните типичный лианозовский день?» — это вы его спрашиваете. Немухин отвечает: «Вот яркий довольно случай, «пикник авангардистов».
61-й год, весна, к Оскару, — то есть Рабину, — в Лианозово приехал Васильев-Мон, зажиточный член МОСХа, из благополучной советской семьи, с двумя собаками-боксерами и дачей. А мы кошку-то не могли прокормить. Сапгир приезжает, я, Лида, Вечтомов, Оскар, Валя, Лев — такая компания авангардистов, новых художников. Идем гулять, выпить пол-литра-два, какую-то закусь собрали, проходим окраину Лианозова, болота зеленые, вдруг он увидел лягушачью икру.
– Друзья, икра лягушек! Это прекрасно! — говорит Васильев-Мон.
– Да, это чудеса, давайте есть, где ложка! — тут же подхватил Сапгир.
Он был готов целую оду сочинить лягушачьей икре. Все зачерпнули, стали есть эту лягушачью икру. Лидка не стала, я попробовал, рыбой какой-то пахнет. Сели, налили водки, выпили, заговорили о возвышенном — вот такой пикник авангардистов. Все это прошло, но было мило и абсолютно подлинно».
В. А.: Таких историй там много. Немухин — потрясающий рассказчик. Он такой старинный москвич, и его рассказы, в отличие от многих, можно было вот просто воспринимать как Чехова, от и до. То есть он говорил… Он сам ничего не писал, но говорил он блестяще. То есть это было абсолютно готовое литературное произведение. Все его рассказы. Потом, они немножко, в отличие от круга Кабакова, они старше на десять лет, и это военное поколение. Кто-то просто бродяжничал, как Рабин, потому что он остался сиротой. Кто-то, как Немухин, работал на заводе. Мастеркова рассказывала, как она в холоде и при свете керосинки все время напряженно рисовала, пока в 1943 году не поступила в художественную школу на Парке культуры, «на Чудовке», где как раз преподавали вот эти замечательные забытые художники, отвергнутые художники 1930-х годов. И, конечно же, вот эта бедность и порождала вот такие истории, как вы сейчас рассказали, про «пикник авангардистов».
И. П.: Ну, в общем, как всегда, мы не успели начать говорить, а программа наша заканчивается. Но мы обязательно вернемся к этой теме. Правда. Она очень важная, серьезная, и мне кажется, до сих пор все-таки не хватает обсуждения о том, что это был за феномен неподцензурной культуры.
Г. К.: Я надеюсь, наши книги помогут все-таки.
И. П.: Да, я очень надеюсь. Да, я бы хотела завершить вот тоже цитатой — уже из книги Георгия Кизевальтера. Это, значит, он приводит в статье Георга Яппе, значит, который написал в «Frankfurter Allgemeine Zeitung» в январе 1974 года статью, где изумляется. Он сообщает о выставке пятидесяти неофициальных московских художников в Музее Бохума в Германии и описывает вот здесь бесконечные гонения на художников, которые пытаются выставляться, все время договариваются через Дом культуры, чтобы дайте нам выставить, а значит, советская власть стоит просто вот — ни за что. И он пишет: «Для интеллектуалов на Западе остается непонятным, почему великий Советский Союз не может позволить себе сделать то, что когда-то сделала Польша, Румыния и Чехословакия (ЧССР), а теперь еще к этому осторожно подталкивают Венгрию и ГДР, — провести либерализацию культурной политики, чтобы повысить культурный имидж страны и чувство собственного достоинства». Это до сих пор остается загадкой. Вот на этом знаке вопроса мы нашу программу закончим. Большое спасибо вам за участие и за прекрасные книги.
В. А.: Спасибо.
Спасибо, что слушали нас. С вами была Ирина Прохорова и подкаст «За фасадом советского гламура». Этот подкаст сделан в рамке нашего проекта «НЛО Медиа». Если вам понравился этот выпуск, следите за обновлениями и другими проектами «НЛО Медиа».