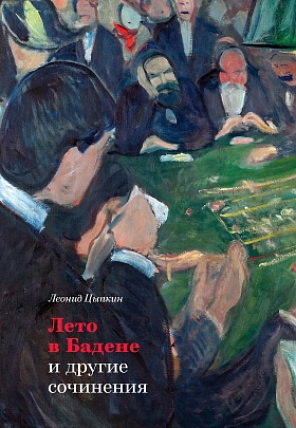Парадоксы советского литературного процесса. Открытая запись подкаста на Non/fictio№24
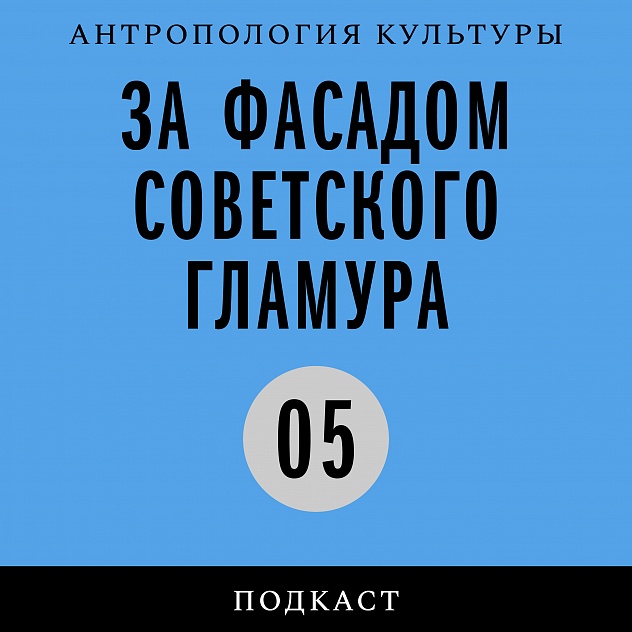
Подкаст ведет: Ирина Прохорова.
В гостях: Данила Давыдов, Михаил Павловец.



- 00:01:24 Представление гостей, тема выпуска
- 00:03:01 Почему неподцензурная литература не вошла в современный литературный канон
- 00:05:14 О понятии «профессионального писателя» в России
- 00:07:42 О моде на «большой стиль»
- 00:10:08 Насколько можно говорить о единстве «неофициальной культуры»
- 00:14:40 Фигуры Леонида Цыпкина, Леона Богданова и Зиновия Зиника
- 00:20:50 Данила Давыдов о том, почему от литературного андеграунда осталось немного больших текстов
- 00:24:45 О контекстах Леона Богданова
- 00:31:23 Неподцензурная культура — континент или архипелаг?
- 00:36:35 Михаил Павловец о литературе третьей волны эмиграции
- 00:37:38 Русскоязычная литература, феномен Зиновия Зиника
- 00:42:53 «Тамиздат» и параллельный литературный канон
→ Читать полностью
Ирина Прохорова: Дорогие коллеги и друзья! Спасибо, что вы пришли на круглый стол, организованный в издательстве «Новое литературное обозрение». Это не просто круглый стол, а это открытая запись подкаста, потому что 1 декабря «НЛО» запустило сайт подкастов под названием «НЛО Медиа». Вот у нас тут даже такие закладочки — реклама в виде закладочек. Можете их потом взять. И там у нас целый цикл разных очень интересных и важных подкастов, где, отталкиваясь от книг издательства «НЛО», мы обсуждаем много важных, серьезных интеллектуальных вопросов. И этот подкаст записывается в рамках такого сериала, который называется «За фасадом советского гламура», где мы пытаемся с позиции антропологических исследований посмотреть на реальную жизнь людей в Советском Союзе, попытавшись прорваться через вот такое большое идеологическое наследие, которое нам не всегда позволяет увидеть реальную жизнь. Но сегодня этот подкаст будет посвящен урокам неподцензурной литературы. Я представлюсь. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». А со мной сегодня беседуют наши гости: это Данила Давыдов, литературный критик, и Михаил Павловец, филолог и доцент Высшей школы экономики. Значит, коллеги, вот самый первый номер журнала «Новое литературное обозрение», который вышел как раз в декабре 1992 года, а именно тридцать лет назад, в нем как бы с первого номера была заявлена тема исследований неподцензурной культуры. И вот прошло тридцать лет. Довольно много издано и в «Новом литературном обозрении», и в других издательствах произведений литераторов, интеллектуалов, связанных с неформальной культурой. Но тем не менее у меня складывается впечатление, что все-таки эта Атлантида так как-то и не всплыла в общественном сознании. Само противопоставление «подцензурная — неподцензурная» говорит о том, что не произведена какая-то очень серьезная рефлексия, чтобы понять, в чем специфика творчества была, какие тренды <нрзб>, как это сочеталось эстетически, а не политически, скажем, с подцензурной литературой. Или как это встраивалось в какой-то международный контекст. Вот мне бы хотелось немножко поговорить на эту тему сегодня, потому что это удивительно. Я бы хотела задать первый вопрос. А почему при живых носителях этой культуры в течение, во всяком случае, долгого времени, при открытости всех материалов интерес к неподцензурной культуре в интеллектуальной среде, он как бы присутствовал, но не стало, ну, я не знаю, может быть, центральным делом жизни? Вот с вашей точки зрения. Да, Данила, ну, может быть, с вас начнем.
Данила Давыдов: Мне кажется, есть довольно много разных причин. Ну, во-первых, когда все обвалилось в Советском Союзе, обвалилось на самом деле далеко не все, так сказать. И какие-то институции прекрасным образом преобразованно, трансформировавшись, тем не менее перешли и в постсоветское состояние тоже, так сказать. Ну, например, толстые журналы.
И. П.: Они тоже печатали и Дмитрия Александровича Пригова, и очень многих. И Айги. Нельзя сказать, чтобы они как-то совсем отстали от жизни.
Д. Д.: Нет-нет, это понятно. И «Новый мир» печатал и Сапгира, так сказать, и много кого, так сказать, но тем не менее именно в толстом журнале прозвучало сакраментальное «тень, знай свое место» покойного критика Рассадина. Заметим, не какого-нибудь погромного, вполне либерального критика. Это в «Знамени», помнится, была публикация. И такого же рода идея была, что вот есть некоторая правильная такая вот, мейнстримовая такая вот, либерально-союзписательская официальная литература, в которую лучшее мы заберем из андеграунда, то, что более или менее приемлемо, так сказать, и действительно многие авторы андеграунда, такие как бы относительно умеренные, перешли вполне себе в вот это самое толстожурнальное пространство. Другая часть, которая оказалась слишком радикальной художественно или этически слишком последовательной, не вошла в этот круг, а это очень часто были авторы, может быть, самые и интересные, с одной стороны. С другой стороны, была и остается, в общем, жутчайшая консервативность академической истории литературы, которая, в свою очередь, влечет за собой и школьное преподавание, о чем, я думаю, Михаил Юрьевич скажет гораздо лучше, чем я, поскольку в этом разбирается просто лучше, чем я.
Михаил Павловец: Так сложилось в нашей стране, что мы до сих пор очень сильно доверяем, во-первых, официальным институциям и, во-вторых, официальным спискам. Что касается институций, само понятие «профессионал», «профессиональный писатель» — это тот, который признан вот этими официальными институциями, который является членом Союза писателей, который издается в толстых журналах, который издается в серьезных издательствах многотомных. И второе, это тот писатель, который попал в учебники. Мечта попасть в учебники вообще отличает именно советского писателя. Если ты в учебнике, значит, вроде бы как ты на полочке Вечности уже оказался. Тогда как проблема многих и многих авторов из неподцензурной среды — они, в общем-то, не то что даже не избалованы широким читателем, они особенно-то и не стремились никогда к этому. Это писатели, которые привыкли быть писателями для своего, довольно узкого, круга, и для них специально бегать, обивать пороги издательства, требовать, чтоб тебя напечатали, налаживать какие-то связи — для большинства это, в общем, такой привычки-то и нет. А в это время спокойно формировался постсоветский образовательный канон, и в школе, где за всю и эмигрантскую литературу второй половины XX века, и всю самиздатскую неподцензурную литературу XX века сначала отвечал один Бродский, потом туда потихонечку стали добавлять Довлатова. И примерно то же самое происходит и в канонах образовательных для высшей школы. Обычно есть одна лекция, посвященная русскому зарубежью третьей волны и, может быть, одну лекцию, если преподаватель в силах прочитать, про неподцензурную. Но к этому все равно отношение как к чему-то то ли любительскому, то ли очень сильно маргинальному. Не упомянуть вроде бы как сложно об этом, но, ребята, у нас уже есть традиция изучения больших, крупных писателей — Солженицына, Распутина, Трифонова — это хорошие всё авторы на самом деле, но на них бы время хватило, куда там много заниматься еще каким-нибудь Долгиным или Кузьминским и, ну, может быть, Ерофеевым.
И. П.: С одной стороны, да. С другой стороны, все-таки в постсоветское время возникли и новые журналы, и новые издательства, и огромная сеть СМИ независимых, где работали много журналистов — люди, вышедшие из филологической среды. И в данном случае я, как издатель и редактор журнала, мне как-то было всегда интересно посмотреть вот эти моды новые — в хорошем смысле слова. Любопытно, что большое количество ярких и талантливых людей все стали заниматься большим стилем — сталинским. И в момент в 1990-е годы, когда такие происходят переломы, прошлое кажется невероятной экзотикой. Вот как бы сталинская эпоха вдруг стала как какое-то Средневековье далекое. И я как бы с интересом… То есть отчасти эта мода пришла из славистики западной, потому что там было целое такое большое направление изучения сталинизма — то, что, естественно, в советское время быть не могло. С другой стороны, это тоже для меня некоторым образом не совсем объяснимое явление, но занятия архитектурой сталинской, сталинское кино, сталинская литература при всей, так сказать, казалось бы, критичности, тем не менее получается, что весь этот канон, выстроенный, собственно, вот канон литературный в том числе, он же — это как бы сталинский канон, в который чуть-чуть добавляются, как ракушки, прилепливаются к основному, значит, какие-то писатели. Ну хорошо, Ахматову тоже теперь можно, Цветаеву можно пристроить тоже к нему. Но ведь на самом-то деле интересным образом, что этот канон больше идеологический, нежели эстетический. Мне кажется важным, что получается, что тем не менее и в подсознании у нас все-таки все, что было подцензурное, — это главное. Все, что было неподцензурное, — это как бы факультатив. Таким образом, мы теряем возможность… И я, во-первых, не поверю, что писатели не хотели печататься. Это не может быть. Это против природы писательства. Я помню Андрея Сергеева, замечательного писателя, которого мы опубликовали его «Альбом для марок», и в 1996 году он получил «Букера». Я помню, как он расцвел, вот когда, наконец, вышла книжка, когда еще было… <нрзб> То есть можно себя утешать, сидя в подполье, что мне ничего не надо, я могу быть свободным, но писать в стол — это почти самоубийство для писателя. Но вопрос я хотела задать следующий. Андеграунд, если мы называем неподцензурную литературу, мы сейчас говорим хотя бы о литературе, — как бы это совсем не… Очень пестрое, очень разнообразное поле творческое. Вот можем ли мы хотя бы… Вот мы представили здесь как бы три книги из многих, вышедших в «Новом литературном обозрении»: Леонид Цыпкин, «Лето в Бадене» и другие сочинения, Леон Богданов, «Заметки о чаепитии и землетрясениях» и недавно вышедшая книжка Зиновия Зиника «Нет причины для тревоги» — тоже литератор, который вышел из андеграунда. Они абсолютно разные. Как бы их объединяет только одно: что это неподцензурные писатели, они никогда не попадали, так сказать, в официальное, публичное поле. Вот, грубо говоря, хотела у Данилы спросить: а можно ли в течение стольких лет попробовать вытянуть какую-то эстетическую линию? Вот есть там какие-то… Этот родил того-то, этот — того-то, а этот — вполне можно сравнить с каким-то и подцензурным писателем. Ну, грубо говоря, какие эстетические тренды там существовали?
Д. Д.: Эстетическую линию-то можно выстроить, только не одну, а вот сразу несколько, вот в чем дело. И вот если мы всех этих трех авторов постольку, поскольку есть повод о них говорить, возьмем, то все эти три автора абсолютно не только разные, а я бы сказал, в каком-то смысле не очень даже совместимые. То есть это не одна какая-то линия. Это какие-то разные линии очень. Во-первых, каждый из них неподцензурен своим способом. Это три разных поколения. Это три разных абсолютно среды. Это ленинградский андеграунд такой, Леон Богданов, который принадлежит к кругу таких сознательных маргиналов, людей, избравших абсолютно эскапистский способ существования, и даже внутри ленинградского андеграунда находившийся в некоторой еще такой внутренней изоляции, даже внутри него общавшийся очень мало с кем, хотя и признанный этим самым сообществом, но не всем известный даже внутри, так сказать, андеграундного круга ленинградского, что уж говорить о каком-то более широком читателе. Это человек, который вообще не входил в литературное пространство, Леонид Цыпкин, который стал андеграундом де-факто, но он не принадлежал к социокультурному явлению андеграунда: он не печатался в самиздате, не был никому известен, попытался встретиться с Синявским — не получилось, дружил с такой же маргиналкой — пианисткой Юдиной, но, в общем, не принадлежал ни к какому полю вообще. Он отсутствовал вообще, так сказать, в словесности, что называется. И, если б не счастливое стечение обстоятельств, если б не наследники, просто его бы не было в литературе. И это представитель московского уже андеграундного кружка, довольно позднего, ученик замечательного андеграундного писателя Павла Улитина, Зиновий Зиник, друг, так сказать, таких замечательных поэтов, как Михаил Айзенберг, как Леонид Иоффе, как Евгений Сабуров, который совершенно был нацелен не на продолжение какого-то вот внутреннего, так сказать, литературного существования внутри русской андеграундной среды, а который воспринимал себя, в первую очередь, как гражданина мира и который стремился к эмиграции не чтобы продолжать в этой эмиграции вариться в эмигрантской среде, а чтобы стать просто писателем, отнюдь не русским писателем, просто некоторым писателем, пишущим по-русски, но существующим в мировом контексте, который совершенно не ориентируется на какие-то вот иерархии русско-литературные. Он, конечно, ученик Улитина, но в этом смысле он ученик Улитина скорее в смысле европейскости Улитина, очень неожиданной для русского андеграунда, такой нацеленности самого Улитина на разные андеграундные, так сказать, практики, скажем, англо-американской литературы, и большинству андеграунда это было чуждо. Так что это всё линии абсолютно разные. Я не думаю, что мы можем вывести одну какую-то линию мейнстримовую.
И. П.: Как раз нет. Я не говорила «мейнстрим». Но я бы сказала так. Концептуально — пардон, масло масляное, конечно, — сложился московский концептуализм. И во многом, может быть, потому, что у него нашелся идеолог. И в данном случае вот, мы знаем, вот кружок московских концептуалистов. Они тоже, может быть, разные, но они объединены. Вот там романтические, неромантические, не важно. Потому что нашелся Гройс, который дал язык в каком-то смысле этому направлению. Но вот, например, если, я не знаю… Я как-то думала, вот, например, Леонид Цыпкин. Конечно, совершенно уникальное. И это вот, знаете, когда астрономы вычисляют планету, ее не видно, но она должна быть. Вот мне кажется, Цыпкин — это вот такая планета, которую как-то до сих пор и не зафиксировали, потому что это совершенно поразительный роман.
Д. Д.: Роман совершенно гениальный...
М. П.: Мне кажется, здесь просто три принципиально разных стратегии письма, если можно так сказать. Цыпкин вообще непонятно для кого писал. Мне кажется, больше для себя, потому что для него сам процесс писания был какой-то внутренней потребностью. Насколько я понимаю, когда он писал, его и читала только его семья и, может быть, два-три близких очень человека. Он и сильно не рассчитывал. И он узнал, что он опубликован на Западе, по-моему, чуть ли не за неделю до своей собственной трагической смерти скоропостижной. Для Богданова, мне кажется, больше писание — это что-то было параллельное его скорее живописной деятельности. Он все-таки прежде всего художник. А писание для него — это была форма… Вот об этом очень хорошо пишет Алексей Масалов — про то, что это было скорее такое исследование, где он занимался исследованием процессов, которые происходят в мире. Он вел очень тщательный подсчет всех катастроф, потому что чувствовал, что вот эти вот вибрации мировые, которые происходят, землетрясения, гибели, катастрофы, расстрелы, смерти крупных политических деятелей, они все каким-то образом связаны. И это было необходимо опять же скорее для него самого зафиксировать, выстроить в ряд, создать такой большой документ, на основе которого потом можно будет сделать какие-то очень глобальные выводы вообще об устройстве мироздания, о закономерностях, которые правят миром. Тогда как Зиник все-таки в этом смысле действительно скорее больше такой западный тип писателя. Он видит своего читателя, он видит своего адресата, и ему-то как раз нужно же быть прочитанным. Он разговаривает со своим читателем. Он ориентируется на определенные писательские традиции. И мне кажется, Зиник даже в большей степени — это немножко другая неподцензурная уже традиция. Он и расцвел как писатель, по-моему, как я понимаю, когда он оказался уже в эмиграции, там, где был его основной читатель, там, где не было цензуры или цензура была немножко иначе устроена. Вот как Набоков говорил, что в Советском Союзе царит внешний заказ, внешняя цензура, а в эмиграции — скорее внутренняя, там ты сам себе какие-то вещи запрещаешь или, напротив, заставляешь себя об этом писать. И, может быть, поэтому, если говорить об успехе писательском, то Зиник, наверно, в этом смысле наиболее успешен — именно потому, что он думал о своем читателе и он думал о своем продвижении как писателя.
И. П.: Меня интересует другое. Вот роман Цыпкина. Ну хорошо, положим, он в свое время, не будучи включен в литературный круг, не попал. И вообще судьба — его обнаружила Сьюзен Зонтаг. Замечательно вообще. Случайно это было переведено на английский язык и лежало в какой-то лавочке. Она, значит, прочитала и сделала… <нрзб> Совершенно, мне кажется, гениальный роман. Но, когда я начала думать, как мы можем его встроить… Он же обожал русскую литературу, он человек был глубоко начитанный. Это вот такой тип советского интеллигента в лучших его проявлениях. При этом еще талантливый писатель. Я стала думать, что, с одной стороны, о чем роман? О драме, о трагедии существования интеллектуала в XX веке. В Советском Союзе, не важно. Но вообще вот интеллектуалы среди трагедий XX века. Ну хорошо. Следовательно, можно сравнить его и с «Пушкинским домом», где тоже эта проблематика. Вообще проблема интеллектуала советского в его обстоятельствах — это же одна из вообще таких серьезных линий что подцензурной, что неподцензурной литературы. Другое дело, в подцензурной литературе многие вещи нельзя было сказать. Но, с другой стороны, ну хорошо, с тем же Белинковым можно сравнить: «Сдача и гибель советского интеллигента», про Юрия Олешу. Это трагедия талантливого человека, который… Обстоятельства его ломают, так сказать. Я не знаю, там, можно сравнить, я не знаю, там, с Лидией Яковлевной Гинзбург, хотя она пишет как бы совсем по-другому, и тем не менее это такая философская проза мощная, которая такая полудневниковая, которая… И, когда ты начинаешь об этом думать, ты вдруг видишь, что за этим идет такая невероятная традиция.
Д. Д.: Не, ну, конечно, параллели здесь безусловные, и роман встроился в этом смысле, гипотетически встроился, по крайней мере, в некоторый ряд современных ему текстов, предшествующих и последующих. Другое дело, что...
И. П.: Я прерву. Но ведь там то, что называется ядро, вот это интеллектуальное и эстетическое, — это разговор о парадоксальности любви к Достоевскому, которого он показывает, в общем, нельзя сказать, что симпатичным человеком. И да, со всеми его сложными взглядами. И разговор о том, что а почему мы его так любим? По идее, мы не должны его любить. И вот это странное состояние интеллектуала и разговор с этими отчасти чуждыми идеями, с другой, невероятной любовью вокруг этого. Сам разговор о Достоевском переходит на новый уровень.
Д. Д.: Тут просто мне даже нечего добавить. Это совершенно очевидно. Я просто хочу сказать немножко о другом: что да, этот текст вот есть, но он такой один, по большому счету, и даже в, собственно, творчестве Цыпкина он выделяется, потому что Цыпкин мало написал. Как я понимаю, этот том — это почти исчерпывающее собрание. В основном это были повести и рассказы, очень интересные, очень сильные, но, конечно, роман на голову выше. И замечательно то, что это действительно роман, находящийся на грани фикшна и нон-фикшна, переходящий из такого псевдодокументального повествования в биотекст, в автобиографическое какое-то повествование. Текст был бы замечательный, если бы он создал какой-то контекст, но, поскольку он был не прочитан современниками, он оказался абсолютно не прочитан по-русски. Он появился тогда, когда мы его уже можем встраивать только в какое-то гипотетическое его место в прошлом в истории литературы. Это остается такой артефакт, к сожалению. И еще одна маленькая беда заключается в том, что вообще таких текстов я не уверен, что мы много обнаружим, потому что андеграунд как был устроен? Там было очень много поэтических текстов. Там было много короткой прозы. Но того, что требует вот то самое, мейнстрим, то, что требует широкий читатель, больших прозаических текстов там было мало — просто потому, что их сложнее писать в стол просто, в конце концов, чисто технически и сложнее запускать в самиздат. Поэтому, когда вдруг оказалось, что что-то можно печатать, андеграунду было чуть-чуть меньше предъявить, чем таким как бы полулегальным советским писателям, какого-то материала, такого понятного и доступного, потому что представить себе широкого читателя, который без подготовки берется читать вот эти самые странные записные тетради Леона Богданова, мне, честно говоря, довольно сложно.
М. П.: Да, и, кстати, если сказать про Цыпкина, я бы Цыпкина, как ни странно, сравнил скорее с Фетом. Потому что у Цыпкина было такое двойное бытие. С одной стороны, он врач. Он занимается какими-то очень сложными, непонятными… Патологоанатом к тому же. То есть живет в каком-то странном, темном довольно мире. Вообще предпочитает иметь дело с мертвыми людьми, а не с живыми. И есть параллельное существование — это существование связано с литературой. Это вот то самое… Иллюстрация, что такое русский литературоцентризм. Литература — это такой эскапизм, это способ уйти в некий параллельный мир, этот мир обживать, выстраивать с ним отношения, причем этот мир не совсем идеален. Вот как у Фета был мир его поэзии, в который он уходил и там был совершенно кем-то другим, так и здесь. Ты приходишь, ты выясняешь отношения с Достоевским, как с другим живым человеком, не с трупом, а с живым, чтоб выяснить причину его антисемитизма, выловить причину его этой игровой мании, этой лудомании, его отношения к жене, к женщинам как таковым. И это такое своего рода небольшое художественное исследование, но необходимое прежде всего самому автору. Он хочет разобраться в Достоевском, чтобы разобраться в себе. И отсюда сама структура его вот этого очень маленького романа. С одной стороны, история путешествия где-то между Москвой и Ленинградом главного героя, где он встречается со своими родственниками, с какими-то знакомыми, ходит по достоевским местам, а с другой стороны, история Достоевского, но история опять же Достоевского за границей. Заграница — это тоже такой альтернативный мир. Германия, мир вот этих игровых центров, где играют в эти карты и проигрывают целые состояния. Немножко побыть словно бы в другом мире — мире не том, который тебя окружает в твоей повседневности.
И. П.: Вот смотрите. Мы уже начали так в рабочем порядке вписывать его в некоторую вот… Понимание соположения. Ну, например, Леон Богданов — это совсем другая традиция. Вы знаете, вопрос, что это прочесть могут многие или немногие, — это ведь действительно дело привычки, и очень важно, когда писатель попадает в публичное пространство. Ну, уж извините за банальность, «Улисс» Джойса был совершенно почти не умопостигаемый для современников…
М. П.: Ну и продолжает быть, в общем.
И. П.: Ничего подобного! Сейчас все, кому не лень, его читают. Он в paperback лежит. Он вошел... То есть читающая публика привыкла к этому типу письма. И уже, так сказать, это перестало… Весь поток этот сознания — это стал почти уже такой масс-маркет.
М. П.: Но это еще доблесть — доблесть прочитать и гордиться.
И. П.: Нет, уже это не сложно, потому что происходит постепенное привыкание. Ну извините, даже забавно, что… Уж отвлечемся. Булгаков, «Мастера и Маргариту», которая была чтением заповедным для взрослых, теперь читают подростки. То есть он настолько вошел в культуру...
М. П.: Ну да, он уже воспринимается как фэнтези такое, да.
И. П.: И он освоен, и поэтому это становится чтением уже, так сказать, вот совсем молодых людей. И никого вот эти там Иешуа не сводят с ума — что, о чем там пишут? Это вот другое. Но вот Леон Богданов, мне кажется… Если мы посмотрим его не в рамках, там, андеграунда или даже советской литературы, а если мы поймем, что он ведь писал параллельно с появлением постмодернизма в Европе и в Америке, то, например, его легко сравнить, например, с каким-нибудь там Джилбертом Соррентино — постмодернистом американским. И очень похожие тексты — сложные, фрагментарные, построенные на вот такой… Собирание, значит, ежедневных каких-то впечатлений, какого-то мусора, значит, информационного. И за всем этим встает картина такого драматического бытия. В этом смысле очень интересно, что у нас до сих пор нет привычки пытаться встроить какие-то тексты в более широкий контекст. Ну, например, Солженицын — для нас важен прежде всего «Архипелаг ГУЛАГ» как ну вот такое откровение о сталинских преступлениях. Но если мы посмотрим и впишем его в какую-то такую западноевропейскую традицию, то он великолепно вписывается опять же в этот самый «новый журнализм», который возникает ровно в это же время в Америке. Вот эта вот литература факта, описания, и за этим как бы новая художественность. И, если мы посмотрим с этой точки зрения, мы совершенно по-другому увидим и развитие этой самой литературы. Здесь уже не важно, подцензурная, неподцензурная, а важно, что русская литература пробивала себе какие-то коридоры, даже не очень понимая… Вряд ли Леон Богданов… Может, конечно, читал? Где он мог взять? Вряд ли он мог читать американских постмодернистов. Они были доступны, конечно, в библиотеке, а часто в спецхране, непонятно, почему, по-английски. Но практически неизвестные. Вот интересно, как?.. Как бы неподцензурность предполагала некоторую свободу. Ты не думаешь о том, тебя редактор, там, пропустит или, там, цензор. И таким образом вот неожиданно какие-то вот такие коридоры пробиваются. И тогда ты понимаешь, что он никакой не изгой, а в принципе он современник вот этой постмодернистской литературы, которая была очень разнообразна, и он вполне идеально туда вписывается.
Д. Д.: Конечно. Более того, при всей своей личной маргинальности Богданов, конечно, как раз прекрасно вписывается в традицию и даже в несколько традиций. Во-первых, только ленивый не сравнил Богданова с Розановым. Совершенно очевидное сравнение. Ну, с Розановым и, может быть, там, с Шестовым, с «Апофеозом беспочвенности» и так далее, и так далее. Во-вторых, вообще фрагментарная проза — это не то что бы диво дивное какое-то и в русской литературе. Мы можем вспомнить массу текстов и 1920-х годов и так далее, и так далее. В конце концов, уже упомянутая Лидия Гинзбург дала нам такой прекрасный образец фрагментарной прозы, что просто до сих пор на него очень многие ориентируются и, видимо, будут ориентироваться. С другой стороны, Богданов явно совершенно сознательно вполне опирался на традицию таких восточных записей для себя в духе хэйанской японской прозы, например, раннесредневековой и каких-то других такого рода текстов, поскольку в его основной книге «Заметки о чаепитии и землетрясениях», там как раз отслеживание новинок в издательстве «Наука», какие выходят научные книжки, востоковедческие и так далее, и так далее, какие появляются новые переводы памятников восточной литературы — такой один из магистральных сюжетов, сквозных таких. Совершенно очевидно, что он сыт и одет. Как, впрочем, большое количество участников вот этого самого андеграундного мира, особенно петербургского, что он был очень хорошо знаком и понимал принципы стояния прозы, в том числе такие. И, кстати, тут есть общее влияние и на американцев, и на русских совершенно независимое этой восточной традиции. Это такой нью-эйдж по-советски, по большому счету, получается. Так что тут встраивание вполне хорошее получается, вполне убедительное, а уж на уровне современных блогерских текстов это совсем уж по-другому смотрится. Просто так получилось опять-таки, что эти тексты существовали сами по себе, вот конкретно леонбогдановские, в очень изолированной культуре, что называется. Но сейчас они читаются в этом смысле совершенно спокойно, несмотря на специфику автора и специфику его картины мира, скажем.
М. П.: Ну я когда познакомился с Леоном Богдановым впервые, стало ужасно интересно, а что о нем говорить? Потому что я не понимал, как работать. Я не знал, что делать с этим чтением. Я понимал, что это читать очень интересно, заманивающе, но этого, во-первых, невозможно много читать. Это так же читается, как, скажем, книга стихотворений. Ты прочитываешь несколько записей, потом делаешь перерыв. Я не знаю, можно ли его читать взахлеб. Потом я обратил внимание, что на самом деле есть несколько Леонов Богдановых и это Леоны Богдановы разных людей, которые были близко с ним связаны, которые с ним общались и для которых он крайне дорогой и важный человек. То есть есть Леон Богданов Бориса Останина, есть Леон Богданов Константина Кузьминского, который о нем много очень писал и в своей «Антологии у Голубой Лагуны». По-моему, два раздела целых ему посвятил. И это какой-то совершенно другой Леон Богданов. То есть Леон Богданов — это не тот писатель, который создает некоторый готовый продукт и с ним выходит на читательский рынок, а это человек, который жил и продолжением жизни которого было его писание. Это немножко наоборот по сравнению с Серебряным веком. Там напротив. Там люди писали и старались свою жизнь выводить из собственного творчества. А здесь наоборот. Его творчество — это один из продуктов его жизни. Так же, как его картины, так же его вот это постоянное чаепитие, так же, как его другие увлечения. И его друзья брали то, что от него оставалось. Кто-то собирал его картины, эти рисунки на этих картонках, кому-то показывал. Кто-то собирал разрозненные его записи, собирал их вместе. Им крайне важно было не только оставить в своей памяти Леона Богданова, но и «собрать» его как писателя, чтобы Леон Богданов был не тысячью вот этих машинописных листочков — всё его, собственно, наследие писательское, а чтобы Леон Богданов остался не только в их памяти, но и в виде книги. Потому что книга — это уже способ… Ну, может быть, увековечить — это звучит довольно смело, но, по крайней мере, оставить в истории, закрепить его в истории. Так что во многом, как мне кажется, Леон Богданов — это такой проект людей его круга, его культуры и их способ остаться тоже самим в этой культуре, в том числе через него.
И. П.: Но ведь драма неподцензурной культуры в целом, нам она сейчас кажется — ну вот такой был континент, вот, и действительно сейчас много всяких имен, чудесно. Но на самом деле то, о чем говорили сами они, — это были скорее такие действительно архипелаги, да? Это были маленькие кружки, которые были друг с другом не знакомы. Сравнить их даже, там, с ризомой невозможно, потому что они не знали о существовании друг друга. И это тоже была драма. И важно сейчас, мне кажется, вот это описание этих разных групп по сравнению. Многие занимались параллельно очень сходными вещами. А некоторые вообще делали какие-то вещи, непохожие друг на друга. И часто это были даже не кружки по интересам эстетическим, а просто были дружеские. Ну как, я не знаю, там, в науке это московско-тартуская школа — она, собственно, никакая не школа. Это было собрание таких ярких интеллектуалов.
М. П.: Но они хотя бы более или менее знакомы были.
И. П.: Они были знакомы, но они совершенно разные были. Как ученые в разных направлениях шли, так и, значит, многие поэты, писатели, художники. Это были дружеские кружки действительно замкнутые. И вот проблема, что мы продолжаем их изучать исключительно как замкнутые кружки, а не пытаться, в общем, создать эту общую территорию, как это работало. Ну, например. Если мы сейчас чуть-чуть отвлечемся… Я хотела еще, конечно, о Зинике немножко поговорить. Скажем, вот в конце 1980-х годов, когда, значит, стали распечатывать всю эмигрантскую литературу первой волны и чуть-чуть совсем третьей, был такой тезис, что нет никаких двух литератур, эмигрантской и советской, есть одна великая русская литература, ура. Никто никогда не проверял, она все-таки одна или, может быть, их несколько, которые шли параллельно, пересекались и так далее. Но ведь тоже никто этим, мне кажется, как-то серьезно и системно не занимается. Вот что произошло с ветвью русской литературы, которая ушла в эмиграцию? Насколько ее можно сравнивать с тем, что происходило в советское время? Что консервировала литература эмигрантская? Развивалась ли она или не развивалась? И так далее. Какие тренды прорастали там, которые не могли прорасти в советской литературе? Или наоборот. Мне кажется, это опять такая terra incognita на самом деле.
Д. Д.: Да, наверно. Мне кажется, что, более того, несмотря на то, что существует масса, там, отдельных работ действительно сопоставительных, хороших работ, никакого общего нашего до сих пор не существует представления. Да, надо признать, что у нас не только нет какой-то истории русской литературы второй половины XX века — у нас нет даже подступов к этой истории, даже никаких нет проектов, как эти подступы, значит, организовать, даже я б так сказал. Ну боюсь, что на самом деле так. Потому что действительно непонятно, что именно описывать и в каком формате, и кому сколько уделять места. Что делать центром, действительно, считать ли неподцензурную литературу центром, считать ли, так сказать, советскую литературу центром, считать ли, что никакого центра нет. Я склонен считать, что никакого центра нет, а мы имеем дело как раз действительно с многими литературами, и, может быть, с одной стороны, это трагедия андеграунда, с другой стороны, для дальнейшей русской литературы это как раз скорее некоторый залог ее, может быть, выживания в самых удивительных условиях, что называется. Потому что если мы будем иметь дело с литературами, с многообразием литератур, пускай и существующих вроде бы на одном языке, то это такая какая-то полицентрическая картина, которая отменяет иерархии вообще любые и позволяет очень интересным образом создавать какие-то маршруты между разными вот этими самыми островами, каждый раз простраивать маршруты заново и создавая новые контексты, а в эпоху открытой информации это гораздо проще делать, чем в эпоху, действительно, когда люди сидели по кухням или по своим котельным и не знали, что делается на соседней улице. Так что, несмотря на весь трагизм исторический и на отсутствие нашего знания полностью об этом о всём, мне кажется, что, в принципе, как некоторый проект даже на это нужно ориентироваться.
М. П.: Да. Сейчас как раз новый такой этап изучения той же самой неподцензурной литературы и эмигрантской литературы, когда становится понятно, что и границ-то зачастую и нету, что эти границы — это скорее поля переходности. Мы видим, когда один и тот же автор может быть и эмигрантским автором, и неподцензурным. Или, например, иллегальным. Битов, например. У Битова есть неподцензурная часть его творчества. Или Соснора, да. И есть вполне себе легальная советская часть. И как разделить? По какому принципу? Просто печатался — не печатался? Насколько это верно? Или тот же самый Зиник. Кто он? Он эмигрантский автор, или он автор неподцензурный? Вроде бы все трое у нас представлены именно как неподцензурные. А может быть, и сама эмигрантская литература — это разновидность неподцензурной? В академической среде есть такой стереотип, который опять же сейчас только разрушается: что, мол, третьей волны эмиграции не было просто потому, что большинство эмигрантов туда уезжали, чтобы напечатать уже написанное или дописать уже начатое. Что, мол, кого ни возьми… Возьми Довлатова… Ну либо приехать, чтобы там утратить свой талант. Вот такой стереотип о Бродском о том же самом: уехать для того, чтобы стать поэтом-бухгалтером. И вот как раз, когда ты понимаешь вот эту вот гетероморфность такую, переходность, отсутствие, размытость этих границ, когда ты видишь — какой-нибудь Сапгир, например, есть один Сапгир неподцензурный, и есть Сапгир — детский поэт. Детский поэт Сапгир, который детскому поэту Холину помогает писать поэму о Ленине, но которому бы в голову никогда не пришло написать хоть одно стихотворение о Ленине и попытаться превратить его в паровоз, чтобы опубликовать свою книжку в советском издании. Вот такие вот сюжеты...
Д. Д.: Потому что были такие поэты, как Глазков, которым как раз приходило в голову так делать.
М. П.: Конечно.
И. П.: Но вот я хотела все-таки немножко о Зинике. Мне кажется, что интересно то, что вот — вы уже начинали, Михаил, говорить об этом — что вообще-то в современной литературе вот эти понятия, как бы там, какой писатель — вот он русский писатель, не русский писатель… Ну как разговор о Набокове. И Зиник пишет по-русски, но многие вещи он уже и пишет по-английски. И вообще это ведь тренд последних десятилетий, когда писатель, например, там, я не знаю, из Турции поселяется в Германии, начинает писать по-немецки. Вопрос: они турецкие писатели? Они немецкие писатели? Насколько сейчас определяющий язык пишущего? Или страна происхождения? То есть это вот тоже — раскрытие границ. Вот есть как бы представление старое о национальных литературах — такие монады. Они сами внутри себя. А литературный мир уже давно как бы по факту вышел отсюда. Вот мне кажется, Зиновий Зиник, он вот как раз представитель вот этого типа литератора, который, конечно, имеет мощный советский бэкграунд, но при этом много лет живущий в Европе, и человек, который рефлексирует вот над этими разными бэкграундами, так сказать, обогащая себя и раскрывая, так сказать, какие-то новые грани и творчества, и мира. Ну, собственно, вот мы печатаем великолепного Александра Стесина, человека, который вообще ребенком уехал и пишет по-русски, причем будучи опять же врачом, много лет в Америке. И вот он кто? Он действительно русский писатель или американский писатель, пишущий по-русски? Потому что он носитель нескольких идентичностей, которые вполне мирно уживаются.
Д. Д.: Ну вот мне кажется, что вообще идентичность — вещь довольно такая сомнительная в современном мире. Должна была бы быть в каких-то идеальных условиях. У Зиника есть прекрасное эссе, кстати, в книге, которая тоже в «НЛО» выходила в свое время, и которое, по-моему, ей название дало: «Эмиграция как литературный прием». То есть для Зиника это действительно вполне сознательный способ выйти за пределы вот этой самой какой-то навязанной идентичности — эмиграция. Но эмиграция не просто как факт жизненный, бытовой и так далее, и так далее. Или факт какой-то такой уже засценарированный, так сказать, историей драмы человека, который покинул родину, так сказать, и вынужден ее обсуждать. А это как раз способ выйти за пределы навязанного языка и стать некоторым писателем вне вот этой самой навязанной идентичности. Так что я с вами полностью согласен. Зиник здесь такой, в общем, образцовый в некотором смысле автор вот этого такого с плавающей идентичностью типа, так сказать. И может быть, эту идентичность даже не стоит искать уже окончательную, чтобы… Разве что для энциклопедии это потребуется, так сказать, да и то, как мы понимаем, энциклопедии в нынешней форме тоже уже могут подозревать после этой активной отсылки к чему-либо.
М. П.: Кстати, вот очень рекомендую действительно последнюю книгу Зиника. У него и герои такие же. Даже вроде бы британская аристократка, которая всячески подчеркивает свой аристократизм, вдруг оказывается француженкой, которую как раз выдает на самом деле ее своеобразное произношение, и наш герой ее произношение воспринимает как особенно изысканное британское, тогда как для коренного британского уха в самом этом произношении звучит что-то такое явно чуждое и чужеродное. Может быть, поэтому ей так нужно презирать других за их плебейство или за такую непринадлежность к британской нации и очень ревниво относиться к тому, как принимают тебя самою. И, кстати, вот еще последнее про Зиника. В случае Зиника особенно интересно заиграло само слово «русскоязычный». Еще буквально, может быть, десять-пятнадцать лет назад само слово «русскоязычный» воспринималось как очень нехороший ярлык. Обычно русскоязычными назывались нерусские, этнически нерусские поэты, и припечатать какого-нибудь Бродского или какого-нибудь Довлатова словом «русскоязычный прозаик Довлатов», ну, для определенной категории критиков или читателей было милое дело. А сейчас мы вдруг понимаем, что как раз русскоязычность становится вполне нормальным научным определением писателя, потому что писатель действительно укоренен не в Одессе, не в Москве, не в каком-то другом городе — писатель укоренен в своем собственном языке. А его язык собран из тех языков на самом деле, на котором он сформировался как писатель. Читаешь Зиника — и вдруг у него среди его афоризмов, которыми он сыпет, слышишь: «Всё должно идти медленно и неправильно». И ты понимаешь, так у нас все-таки с ним общий круг, пусть отчасти, но общий круг того, что мы прочли вместе. Значит, хотя бы отчасти у нас с ним общий язык. Это язык русский, и, значит, мы с ним оба русскоязычные. Я русскоязычный читатель, он русскоязычный писатель.
И. П.: Коллеги, вот есть еще одна важная тема, на которую времени у нас уже не осталось, но я просто ее упомяну. Вот когда мы говорили, что мы существуем еще в советском каноне литературном, который следовало бы критически пересмотреть, может быть, демонтировать, как-то по-другому выстроить, но как бы существование тамиздата, где была единственная возможность у неподцензурных писателей, так сказать, публиковаться, и сформировало альтернативный канон, а именно: великолепное издательство «Ардис», американское издательство «Ардис», и мы издали книжку о нем, они такой совершили своего рода, в общем, действительно подвиг — они печатали по-русски огромное количество, значит, литераторов, что потом позволило в конце 1980-х — начале 1990-х годов просто этих уже потом писателей спокойно печатать в России. И если посмотреть, что «Ардис» публиковал, и сравнить его с тем литературным каноном советским, который был сформирован, на который мы, так сказать, так или иначе ориентировались, это окажутся немножко разные литературы. Не то что бы там был идеальный канон, а здесь был совершенно порочный. Но это два замечательных человека-интеллектуала непредвзято старались читать, у них был свой вкус, какие-то свои определенные предпочтения, но они показали, что можно посмотреть на русскую литературу с совсем другой точки зрения. И в этом смысле мне кажется, что у нас огромное поле работы и много чего непрочитанного и неосмысленного. Поэтому вот на этой оптимистической ноте, наверно, мы наши речи прекратим, и мне очень хочется думать, что еще будет масса открытий, потому что не весь андеграунд даже прочитан и опубликован. Думаю, что будет действительно много еще серьезных таких откровений и это правда еще Атлантида, которую стоит со дна поднять. Спасибо вам.
Д. Д.: Спасибо вам, да.
И. П.: И до новых встреч.