Леон Богданов. Как рутина становится литературой
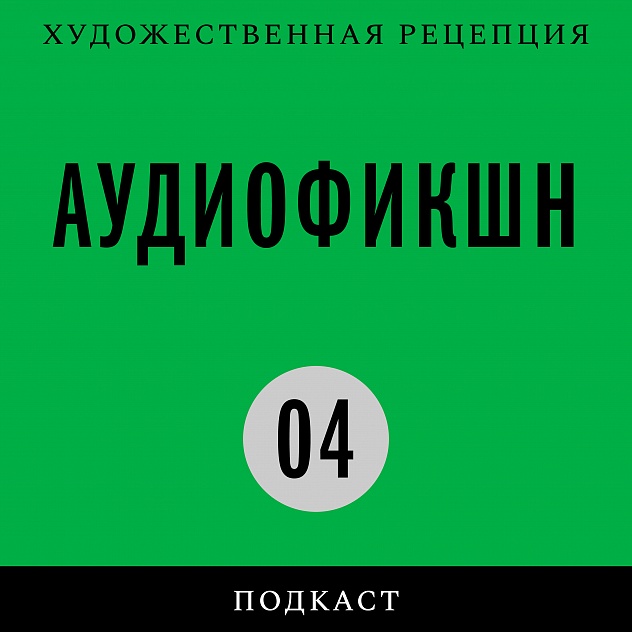
Подкаст ведут: Денис Ларионов, Денис Маслаков.
В гостях: Алексей Конаков.


→ Читать полностью
Денис Ларионов: Здравствуйте! Это подкаст «Аудиофикшн», подкаст издательства «НЛО», в котором мы говорим о современных художественных новинках, культовых книгах и незаслуженно забытых авторах, которых мы возвращаем читателю. Ведущие подкаста — поэт, редактор серии «Художественная словесность» «НЛО» Денис Ларионов.
Денис Маслаков: И Денис Маслаков, журналист и исследователь.
Д. Л.: Сегодня мы продолжаем наш разговор о неподцензурной литературе. И, если в первом выпуске мы говорили о Дмитрии Александровиче Пригове, человеке известном, то сегодня мы будем говорить о менее известной книге и менее известном герое — Леоне Богданове. И говорить о нем мы будем с Алексеем Конаковым — литературным критиком, эссеистом и так далее, и так далее, и так далее. Добрый вечер, Алексей.
Алексей Конаков: Здравствуйте. Рад всех слышать.
Д. М.: Большое спасибо, Лёша, что ты согласился принять участие в нашем сегодняшнем разговоре. Недавно у тебя вышли две книги, которые, собственно, посвящены 1970-м, и поэтому мы… Ты, собственно говоря, писал статью большую о Леоне Богданове и долго им занимался, и поэтому твое мнение о нем, твой рассказ о нем, твое видение этой книги и вообще творчества Леона Богданова нам очень важно. И думаю, не только нам. И поэтому я, собственно, сразу хотел бы перейти к такому одновременно простому и общему, но и в то же время довольно сложному вопросу. Мог бы ты ответить, кто такой Леон Богданов? Насколько его фигура типична, и насколько его фигура нетипична для неподцензурной литературы 1960-х — 1980-х годов и в целом для советского общества 1960-х — 1980-х годов?
А. К.: Про Леона Богданова говорить можно довольно долго и довольно много, но, наверное, следует сказать, что действительно это был человек, с самых своих ранних лет очень сильно связанный с ленинградским художественным и литературным андеграундом. То есть, с одной стороны, Леона Богданова знают как художника, с другой стороны, он известен и как поэт, и как писатель. И он знал практически всех людей, которые составляли вот эту неофициальную позднесоветскую ленинградскую культуру. Хорошо известны его фотографии с Владимиром Эрлем, поэтом, с которым они дружили. Фотографии эти делал, если я не ошибаюсь, то ли Борис Смелов, то ли Борис Кудряков. Это два знаменитых фотографа, которые фотографировали быт второй ленинградской культуры. Богданов публиковался в неподцензурном самиздатском журнале «Часы», который делали Борис Иванов, Борис Останин и Аркадий Драгомощенко. Также известны дружбы Богданова с Кузьминским, с Понизовским. То есть он был, конечно, важной фигурой всей этой среды и в некотором смысле плоть от плоти этой среды. Когда мы читаем записки Леона Богданова, там постоянно возникает фигура Киры. Это Кирилл Козырев — человек, который сейчас является душеприказчиком Елены Шварц, у родителей которого, Алексея Козырева и Марьяны Гордон, в общем-то, собиралась опять же вся советская ленинградская неподцензурная литература: и Александр Миронов, и Елена Шварц, и все остальные. То есть, конечно, это достаточно замкнутый, достаточно элитный по своим интересам круг людей, и Богданов сегодня очень хорошо репрезентирует, наверно, этих людей во всех своих особенностях, в частности, с тем, как они отличались от московского андеграунда, который, на мой вкус, был более деятельным, более предприимчивым, более амбициозным. Когда я размышлял в этом направлении, что можно было бы сказать о Леоне Богданове как типичном человеке своей культуры, я почему-то вспомнил, что, в общем-то, группа «Аквариум» тоже вышла из этих дебрей кафе «Сайгон» и тот же Борис Гребенщиков дружил с Аркадием Драгомощенко, и так далее. И на самом деле сегодня можно было бы сказать, что ранние песни группы «Аквариум» — это такая популярная версия «Записок о чаепитии и землетрясениях», книги, которая сделала известным Леона Богданова. То есть вот эта вся ленинградская тематика 1970-х — 1980-х годов — дзен-буддизм, чай, вино, неспешное течение жизни, подчеркнутая аполитичность — все это, в общем-то, найдено, спрессовано и превращено в такой художественный артефакт Богдановым. И, собственно, из этого же вырастает и ранний «Аквариум». Поэтому, наверно, люди, которые ценят раннего БГ, они с удовольствием будут читать и книгу Леона Богданова. И, может быть, благодаря тому, что Леон Богданов умер достаточно молодым, то есть ему было всего сорок пять лет, когда у него случился инфаркт в феврале 1987 года, может быть, в силу какой-то там цельности своей личности, но вот этот модус ленинградской неподцензурной культуры, в нем выражен наиболее ярко и законченно, и ничем не испорчен, я бы сказал так. То есть он не подался в какую-то общественную деятельность и политику, как это сделал Кривулин. Из него не сотворили идола новых поэтов и основателя новой школы, как это случилось с Аркадием Драгомощенко. Богданов остался таким вот подчеркнутым аутсайдером, маргиналом, который сидит где-то на самом краю Ленинграда, в Купчине, абсолютно новом советском районе, смотрит в окошко, пьет чай и пишет какую-то очень странную дневниковую прозу, которая изначально могла и не опознаваться как художественная и стала произведением во многом опять же случайно, просто потому что друзья решили опубликовать ее в журнале «Часы».
Д. Л.: Мы, собственно, приурочили этот разговор к переизданию этой книги. Ее переиздание вышло вот в 2022 году — «Записок о чаепитии и землетрясениях».
«Двадцать первого февраля сейсмических новостей нет, только в «Известиях» фотография «Отчаяние турецкой матери» — несколько мертвых близнецов и их причитающая мать, но не сказано, что это жертвы землетрясения. Умер Шолохов, его назвали великим, будут хоронить в Вешенской. От такой новости даже голова перестала болеть. Выпили «Балтийского», лечимся чаем с молоком. Похолодало, днем десять градусов. После гороха с сухариками очень хочется пить, даже спать не лечь. Верочка больна и завтра, кажется, воспользуется отгулом. Говорят, будет еще холоднее, в Эстонии сегодня обещают до девятнадцати мороза».
Леон Богданов, «Заметки о чаепитии и землетрясениях».
Д. Л.: Вы, Алексей, уже примерно обрисовали тот образ жизни, который вел Леон Богданов и который он, собственно, описал в этой книге. И, примеряя эту книгу на сегодняшний день, — в принципе, все, что мы сегодня читаем, мы так или иначе примеряем на сегодняшний день, — первоначально, с точки зрения какого-то первоначального впечатления, можно было бы назвать это внутренней эмиграцией, но так ли это на самом деле? Или уместней говорить о вненаходимости, о которой писал Алексей Юрчак?
А. К.: Да, я к термину «внутренняя эмиграция» отношусь с большим скепсисом, когда речь идет вот о таких фигурах, как Леон Богданов или кто-то еще, тот же, не знаю, Виктор Кривулин. То есть все-таки, когда мы говорим о внутренней эмиграции, у нас есть некоторый сложившийся образ. То есть человек уходит в изучение древних языков, например, или пишет авангардный роман, или переводит, там, со староанглийского какие-то никем не востребованные поэмы. То есть всеми силами прячется от мира в какую-то вот башню из слоновой кости, цитадель высокой науки или высокого искусства или во что-то еще. Ну, в конце концов, даже в банальное, там, пьянство, например. Но в случае с Леоном Богдановым нельзя сказать, чтобы он пытался как-то спрятаться от окружающего его мира 1980-х годов. Причем вот это нежелание прятаться, оно заметно даже на уровне стиля. Если Богданов образца какого-нибудь 1974 года пытается еще писать красиво, то есть он как-то отгораживается от советской действительности именно красотами стиля, то, когда он принимается за свои «Записки о чаепитии и землетрясениях», это, кажется, 1983-й, то ли 1984 год, он делает свой стиль максимально простым. Это какие-то протокольные предложения все больше и больше, просто поденные записи, максимально прозрачные. Он не пытается спрятаться за стилем. И точно так же он не пытается игнорировать вот эту, да, советскую действительность 1980-х годов. У него очень много описаний вот этого самого советского района Купчино, и он выходит на улицу, и где-то он покупает пиво, а где-то «выкидывают» рыбу или какие-то еще дефицитные продукты. И вот он с удовольствием описывает весь этот советский быт, и с не меньшим удовольствием он описывает советские телепередачи, советские радиопередачи. Он постоянно смотрит телевизор, слушает советское радио и прилежно выписывает какие-то сводки. То есть мы постоянно можем наткнуться на упоминания каких-то политиков, чиновников, куда-то поехал Шеварднадзе, что-то сказал Горбачев и так далее. И, кажется, Сергей Соколовский в свое время отмечал, что книжка Леона Богданова — это своего рода мемориал всем позднесоветским медиа, начиная от газет и заканчивая телепередачами. То есть, очевидно, речь идет о чем-то другом, вовсе не о том, чтобы спрятаться от этого мира, а о каких-то других отношениях. Можно попробовать подумать, как описать эти отношения. И есть такая расхожая фраза, которую обычно применяют, не знаю, к поэтам-песенникам, например, к условному, там, Высоцкому: «Утром в газете, вечером в куплете». В принципе, Леон Богданов делает что-то похожее. Вот он слушает радио, смотрит телевизор и потом вечером заносит это в свой дневник. То есть в некотором смысле это не то что актуальное письмо. Это, получается, такое сверхактуальное письмо, когда любой читатель, ну, тогда, наверно, слушатель Леона Богданова, просто услышав несколько страниц его дневника, мог сразу опознать: об этом говорили вчера, об этом говорили позавчера, это я тоже читал, там, в «Правде» или слышал радио «Маяк». Но тут происходит интересный эффект. То есть поскольку Богданов постоянно нагнетает вот эту актуальность, поскольку он постоянно пересказывает советские новости, содержание советских газет и телепередач, то актуальность как бы коллапсирует. Она начинает разрушать самое себя и уже не воспринимается в качестве чего-то важного, чего-то действительно актуального. Ну это старинный эффект. Если мы какое-то слово повторяем много-много раз, оно начинает обессмысливаться, вот как происходит в каких-то восточных мантрах, как говорят. У Богданова происходит что-то то же самое. Эта актуальность теряет всю свою силу, свое жало и становится каким-то таким просто странным, немножечко удивительным фоном. В этом, кстати, отличие Леона Богданова от множества современных авторов, которые пытаются быть именно актуальными в таком смысле, что мы берем какую-то важную новость, встаем на трибуну и о ней начинаем размышлять в качестве чего-то важного. Богданов действует по-другому. Ну вот именно потому, что он своим постоянным обращением к актуальности, своим вниманием к советской реальности ее обезвреживает, это производит довольно удивительный эффект. То есть всю советскую жизнь он воспринимает не в качестве какого-то плохо устроенного общежития, неправильно сделанного общества, тоталитарного или авторитарного режима. Скорее он смотрит на вот эти советские восьмидесятые как на игру стихий. И вот этот взгляд на советский мир как на игру стихий, он тотален. То есть это не только новости о землетрясениях, ураганах и извержениях вулканов, которые действительно стихия. Это не только описание погоды за окном, как там бегут тучи или подступают холода. Это действительно стихия. Он на своих близких смотрит как на что-то стихийное. Благодаря, там, его жене или другу внезапно появляются какие-то продукты. Вот появляется какой-то чай. Появляются какие-то книжки. И это воспринимается тоже как что-то, происходящее само собой, что нельзя поменять, а можно только принять. Философ Наталья Козлова в своей книжке о советских людях писала, что таким было отношение к продуктам в СССР: то есть, ну, вот что-то появилось в магазинах. Как появилось, почему, по каким причинам… И у Богданова ровно такой же подход ко всему: и к книгам, которые ему приносят, уносят, дают почитать, и к передачам, которые идут по радио и по телевизору, и к чаю, который он очень любит заваривать, и к гостям, которые по каким-то своим законам приходят, уходят. И вот он на протяжении множества страниц просто созерцает эту игру стихий, любуется ей и совершенно никак себя с ней не соотносит. То есть он не чувствует себя привилегированным, он не чувствует себя угнетенным. Он чувствует себя нормально. И вот это понимание нормальной жизни — это один из ключевых концептов как раз книги Алексея Юрчака, который говорил, что на самом деле советские люди чувствовали, что они живут нормальной жизнью. В этом плане действительно Богданов, как и многие советские люди, очень хорошо описывается через инструментарий, найденный Юрчаком.
Д. Л.: Собственно, мы уже начали разговор о книге «Заметки о чаепитии и землетрясениях», ну, практически с самого начала подкаста, поскольку эта книга является, наверно, прямым воплощением Леона Богданова и того образа жизни, который он вел. Я только хотел уточнить. Изначально понятно, что эта книга содержит в себе такой некий дневник, но изначально эта книга выросла из дневников, или Богданов в нее закладывал уже те смыслы, которые проявляются, когда ты сегодня читаешь эту книгу?
А. К.: Это старый вопрос, который обсуждается, кажется, вот ровно с того момента, как Богданов эту книгу начал писать и ее первые части были опубликованы, и на него давали диаметрально противоположные ответы, то есть кто-то считал, что да, это просто дневник, который в какой-то момент напечатали — и он стал считаться литературным произведением, ну, просто потому, что он в литературном журнале был опубликован, в «Часах», а кто-то считал, что на самом деле исходно это было, конечно, художественное произведение, которое только маскировалось под этот дневник. Мне кажется, может быть, сама эта оппозиция сейчас является излишней. В конце концов, последние десять лет все привыкли к такому модному термину, как автофикшн, когда не очень понятно, что это — художественное произведение вырастает из дневника, либо дневник превращается в художественное произведение. И в этом плане, наверное, вот сейчас Леона Богданова современным читателям будет понять немножко легче, чем это вот могло произойти тридцать лет назад, потому что все уже привыкли к такому способу рассуждения, подачи текста, к самому существованию текста на стыке между письмом дневниковым и письмом художественным. Единственное, что, получается, Леон Богданов создавал вот этот условный автофикшн еще задолго до появления самого термина.
Д. М.: Большое спасибо тебе за такой развернутый комментарий, за такой развернутый ответ. Я бы, может быть, чуть-чуть слегка добавил или какое-то свое мнение, может быть, высказал относительно этого. Мне кажется, эти тексты, такие уникальные тексты неподцензурной словесности, их не так много, но они вот именно, как ты верно заметил, находятся как бы между литературой и как бы чем-то другим. Может быть, я бы назвал это формами жизни. То есть как бы письмо является формой жизни и какой-то антропологической практикой. Наряду с Богдановым не так много на самом деле текстов вспоминается, потому что в некотором смысле такой парадокс: литературой быть легче, чем такими текстами. И Павел Улитин в этом ряду стоит. Может быть, в чем-то, в какой-то степени Харитонов, хотя, может быть, в меньшей. Еще какие-то авторы. То есть таких текстов появляется некоторое количество в 1970-е — 1980-е. Это тоже интересный такой культурный симптом, что, когда… И в современном искусстве тоже. Можно вспомнить тотальные инсталляции Ирины Наховой и Ильи Кабакова, и «Коллективные действия», и так далее, где граница между зоной искусства и зоной жизни практически неразличима или она довольно жестко, наоборот, намечается.
Д. Л.: «На улице солнце. Быстро согревается воздух. Вчера было сразу два землетрясения — в Кировабаде и в Тбилиси. В эпицентрах пять, пять с половиной баллов, в Шамхоре и Таузе имеются повреждения зданий старой постройки. В Тбилиси разрушений нет, эпицентр в горах. А все это время отдыхали, было холодно, очень холодно. Сегодня первый день теплый. Надо сходить на укол. Есть еще поручения. Не хочется начинать пить. Вчера день был вполне тихий. Мы мирно поужинали без алкоголя. Собралось у меня шесть рублей. Может быть, в книжный зайти? Теперь об толчках говорят парных, так уже было. Свергли Романова, эта новость не на один день. Романовской дамбы не будет. Громыко стал председателем президиума Верховного Совета СССР, а Шеварднадзе — министром иностранных дел. Был экстренный выпуск последних известий. Теперь немножко изменилось правительство».
Леон Богданов, «Заметки о чаепитии и землетрясениях».
Д. М.: Я бы все-таки как бы, продолжая логику сравнения, что ли, вот этого романа, который мне кажется исключительно как бы важным сегодня, просто опыт взаимодействия с этим текстом, потому что мы действительно переживаем нечто подобное. Но все-таки хотелось бы уточнить, что ли, как бы и такой вопрос наивный задать, а как все-таки его читать сегодня? Точнее, как его вообще читать и как его читать сегодня? Вот мне кажется, несмотря на некоторые очевидные параллели между сегодняшним человеком, взаимодействующим с социальными медиа, взаимодействующим с разными каналами информации и так далее, знания и так далее, и которые разгоняют время до практически неразличимости, которые делают его тоже своего рода стихией, и все-таки довольно идиллическим таким или, может быть, с одной стороны, поставленным на паузу, но в то же время это не совсем так, наверно, миром Богданова есть какая-то разница. Вот как ты считаешь, изменился ли способ чтения этой книги за последние сорок лет?
А. К.: Да. Про способ чтения надо поговорить отдельно. В продолжение реплики, которая была раньше, я, наверно, хотел бы добавить, что, может быть, действительно книга Богданова не была прочитана в условном 2002 году, когда она вышла первый раз в издательстве «Новое литературное обозрение», может быть, как раз потому, что это виделось как еще одно дневниковое письмо просто. То есть вот этот текст Богданова, пребывающий на границе между дневником и художественным произведением, под дневник слишком успешно маскировался. У Роже Кайуа была знаменитая статья о мимикрии, которая приводит к тому, что вредит самому мимикрирующему животному, то есть некоторые жуки настолько хорошо маскируются под листья, что их, там, съедают уже в качестве листьев. Вот с Богдановым получилось что-то такое же. То есть это оказалось слишком, слишком дневником и, возможно, поэтому не было прочитано достаточно внимательно. Притом что самые проницательные читатели Богданова, конечно, понимали, что нужно намечать какие-то новые способы чтения этого текста, и было несколько каких-то наметок сделано. Ну, одна из самых знаменитых, наверно, это идея Виктора Пивоварова, который говорил, что Богданов — это своего рода сын Поприщина и Сэй-Сёнагон, то есть «Заметки о чаепитии и землетрясениях» можно читать вот как такое странное дитя «Записок сумасшедшего» и «Записок у изголовья». Он же говорил, что нужно учитывать наркотическую тему, которая действительно присутствует у Богданова, и нужно учитывать тему шизолитературы, потому что Богданов действительно… У него были приводы в психиатрические клиники. У него был, насколько я знаю, диагноз «шизофрения». И так далее. То есть вопрос, как читать его вообще, он действительно старый, до сих пор, наверно, до конца не обдуманный, хотя какие-то идеи постоянно появляются.
Для современного читателя я бы хотел выделить несколько аспектов. То есть, во-первых, хотя может казаться на первый взгляд, что это довольно скучная проза, ну, то есть человек просто описывает, что вот попил чаю, там, покурил, послушал радио, пришла Верочка, пришел Кирилл, они пообщались, потом стал слушать новости, вот где-то произошло землетрясение, а где-то пролетел ураган, и так вот несколько сотен страниц, в общем-то, одного и того же, но, несмотря на то, что это может казаться изначально чем-то таким скучным, это действительно очень уютная литература. Вы в нее как-то проваливаетесь, как-то в нее закутываетесь и смотрите вот именно на окружающую жизнь, как можно смотреть вечно на текущую воду, на горящий огонь, на веющий ветер, именно на вот эту игру стихий. И Богданов действительно, как ты, Денис, замечал, был, наверно, не одинок в таком подходе, потому что вспоминаются, действительно, и Павел Улитин, и Евгений Харитонов. Я бы еще назвал Беллу Улановскую. Мне кажется, это авторы, которые образуют такую вот великую четверку неподцензурных прозаиков. Они все очень разные, но у них у всех достаточно спокойная интонация, исключая, может быть, некоторые самые темные вещи Евгения Харитонова, но, в принципе, там почти нету какой-то истерики. Там может быть ирония, может быть сарказм, но в целом это довольно спокойная интонация. И это сообщает нам что-то важное, конечно, о том времени и о том, как неподцензурная литература пыталась это время обживать. Но Богданов из них всех, наверно, самый спокойный. То есть Улитин гораздо ироничней, Улановская более деятельная, Харитонов более надрывен. Богданов самый спокойный. Однако есть несколько моментов, которые вот этому очень спокойному медитативному тексту его записок, в которые так уютно проваливаться, придают напряжение. Первый момент — это увлечение Леона Богданова Хлебниковым. Вот он начинает свои записки в 1983 году, и там постоянно всплывает тема, что в 1985 году будет столетний юбилей Хлебникова. И это задает какой-то, что ли, как сейчас скажут, дедлайн, какую-то финишную точку, потому что Леон Богданов, насколько можно понять, ожидает, что вот этот столетний юбилей Хлебникова будет связан с событиями космического масштаба. То ли начнется большая война, то ли извергнутся какие-то вулканы, то ли, действительно, землетрясения пойдут такие, что развалится вся планета Земля. И в этом плане, конечно, на мой вкус, что-то теряется в этих текстах, в этих записках, когда точка юбилея Хлебникова оказывается пройдена. То есть юбилей случился, ничего не произошло, Леон Богданов продолжает жить дальше и писать дальше. И вот этот утерянный ориентир, возможно, он где-то делает «Заметки...» даже в чем-то слабее стилистически. А пока она маячит впереди, эта вот какая-то точка перспективы, она задает напряжение, и читатель волей-неволей втягивается вот в эти постоянные воспоминания Богданова о Хлебникове, о том, что будет, что до юбилея остался год, меньше года, несколько месяцев и что-то произойдет. Вот это параноидальное немножко сосредоточение, оно, конечно, захватывает читателя.
Во-вторых, это, в принципе, эсхатологическое напряжение, даже не связанное с Хлебниковым, но вообще с общим интересом Леона Богданова к землетрясениям и вулканам. Потому что я, например, глубоко убежден, что Богданов, будучи действительно немножечко человеком с параноидальным складом ума, хотел установить какие-то закономерности в том, как происходят землетрясения на планете Земля. И в этом плане его записки играли еще и некоторую прикладную роль. То есть он отмечал точно время, силу землетрясения, количество жертв и что-то еще. То есть, когда мы читаем этот текст, перед нами встает образ своего рода натурфилософа, который очень внимательно наблюдает за окружающим миром, пытается вывести какие-то умозаключения о том, как вообще развивается планета Земля. Тут можно было бы сказать о том, что Леон Богданов был увлечен теориями Николая Козырева о том, что время может порождать энергию, создавать работу и так далее. Но, наверное, важно для нас другое. Важно именно то, что Богданов своим вниманием к этим геологическим процессам задает большие промежутки времени. И это то, чего не хватает именно нам, современным читателям, потому что мы все-таки сильно погружены вот в эту какую-то мелкую фейсбучно-твиттерную галиматью. Мы живем очень небольшими промежутками времени. Мы заходим в телефон, листаем ленты, там постоянно какие-то новости, какие-то фотографии, происходит все каждую минуту, и чувство каких-то длительных промежутков, оно оказывается утрачено. На это жалуются очень многие люди: мы не знаем, что будет завтра, а послезавтра мы все умрем, и так далее. То есть масштаб очень мелок. И, когда мы читаем Богданова, мы видим, что человек мыслит совершенно какими-то другими отрезками времени и при этом эти отрезки времени, несмотря на свою огромность, как-то не исключают самого автора. Он очень удобно оказывается заключен внутри этих отрезков. Он в них очень себя удобно чувствует. И вот он задает эту огромную длительность. То есть мы меряем время не между какими-то вот двумя сообщениями в Твиттере, а между двумя землетрясениями. Одно из них произошло где-нибудь в Японии, а второе — где-нибудь в Чили. Ахматова говорила, что в России нужно жить долго, только тогда мы можем увидеть какую-то позитивную тенденцию, и в этом плане Богданов оказывается чтением почти терапевтическим, потому что задавая вот такие огромные промежутки времени, он учит нас жить долго, мыслить большими какими-то пространствами, большими периодами, и это именно то, чего не хватает современному человеку.
Д. Л.: Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Мне кажется, несмотря на то, что наш подкаст подразумевает определенный хронометраж, в этот хронометраж уместилось несколько, по-моему, блестящих, исчерпывающих ответов про Леона Богданова и его книгу. И напоследок я хотел бы задать последний вопрос, немного личный. Вы, мне кажется, один из немногих специалистов по Богданову в России и в мире, соответственно. И вы написали статью о нем в книге, которая сейчас, к сожалению, не припомню, как называется, но она выходила тоже не так давно. И единственная лекция на Ютьюбе о Богданове тоже ваша. И в связи с этим у меня такой вопрос. В чем ваш личный интерес к Богданову, и чем вас, может быть, он утешает, помогает вам сегодня?
А. К.: Мой интерес был вызван скорее таким чувством недовольства, потому что, когда я столкнулся с этим текстом в первый раз, я действительно не мог понять, как он работает. То есть чем человек цепляет, почему его хочется читать и как он устроен. И, действительно, у меня было несколько попыток объяснить для себя, как этот текст мог бы работать.
Первая была связана с тем, что мне казалось, что можно описать композицию этих заметок. То есть у Богданова есть шесть основных тем. Это его близкие, это чай, это землетрясения, это советские медиа, это книги. И можно проследить, как эти темы в тексте идут друг за другом, и вот оказывается, что они выстраивают очень красивые узоры. То есть они переплетаются по каким-то довольно правильным траекториям. Они сходятся, расходятся, образуют контрапункты. То есть чем-то напоминает это вообще фуги. Это была первая попытка объяснить, как работает текст Богданова.
Вторая попытка была связана как раз с его интересом к Велимиру Хлебникову. Мне показалось, что в прозе Леона Богданова огромное количество числительных. И, возможно, это какая-то попытка на новом уровне вернуться к идеям Хлебникова о времени, о закономерностях, о формулах, которые Хлебников выводил, степенных, чтобы вычислить какие-то временны́е события. Казалось, Богданов делает что-то похожее, и вот все эти вещи, когда он приводит цену на книги, когда он приводит математически точно, во сколько, когда и с какой силой было землетрясение, это всё просто поводы насыщать свои тексты числами, так же, как названия советского чая — они были численные: трехсотый, тридцать шестой и так далее. И в итоге это получался такой аквариум с числительными, которые у Богданова резвятся, выстраиваются в какие-то ряды и, возможно, откроют тайну времени.
И была у меня третья статья, где я как раз подробно писал о связи Леона Богданова с теорией времени Николая Козырева и как из этой теории можно объяснить стиль Богданова. По-прежнему у меня есть некоторое чувство неудовлетворения. Я не уверен, что загадку этой книги мне удалось разгадать. Я надеюсь, что когда-нибудь все-таки будет издан, в том же, может быть, «Новом литературном обозрении», том в серии «Современные классики», как выходили по поводу Дмитрия Пригова и Владимира Сорокина. И, возможно, читатели будущие через, там, пять, десять, пятнадцать лет, прочитав такой том, все-таки смогут понять, где кроется тайна обаяния текстов Леона Богданова.
Д. Л.: Я хотел бы внести небольшое уточнение. Книга, о которой я говорил, называется «Вторая вненаходимая: Очерки неофициальной литературы СССР». Она была издана в 2017 году в «Транслите». Ну что ж, время нашего подкаста подошло к концу. Сегодня мы говорили о книге Леона Богданова «Заметки о чаепитии и землетрясениях» с критиком Алексеем Конаковым. А мы напоминаем, что наш подкаст выходит на сайте «НЛО Медиа», который совсем недавно запустило издательство «НЛО». На этом сайте вы можете послушать не только сам подкаст, но и найти книги, о которых мы говорили сегодня, книгу Леона Богданова, в частности, послушать другие подкасты, которые уже вышли, и подкасты наших коллег, которые также выходят на «НЛО Медиа».
Библиография по теме выпуска
- Козлова Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005.
- Гоголь Н.В. Записки сумасшедшего: повести. СПб., 2017.
- Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья; Камо-но Тёмэй. Записки из кельи; Кэнко-хоси. Записки от скуки. М., 1988.
- Конаков А. Вторая вненаходимая: Очерки неофициальной литературы СССР. СПб., 2017.

