«Доктор Живаго»: литература и история
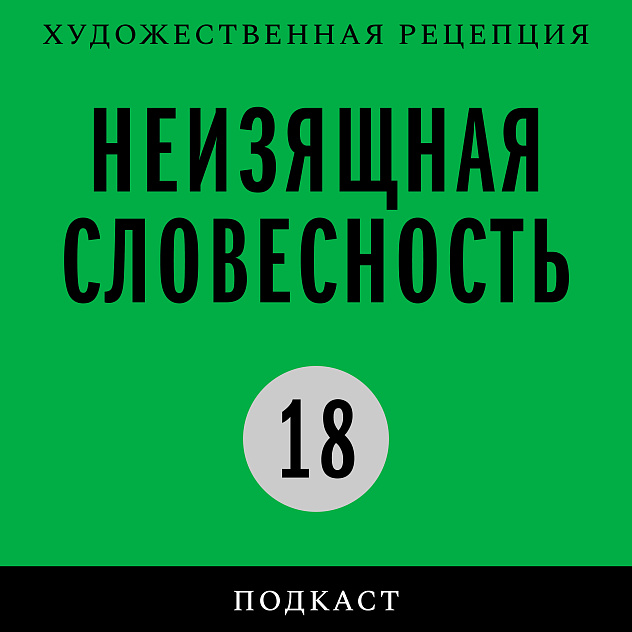
Подкаст ведут: Денис Ларионов, Денис Маслаков.
В гостях: Мария Гельфонд, Константин Поливанов.
Как соотносятся биография писателя и судьба его героя? Почему Пастернак называл свой роман «трамвайным чтивом», при этом вкладывая в него глубокий философский смысл? Почему писатель рассматривал период с 1914 по 1945 год как единую эпоху? А также — как «Доктор Живаго» повлиял на восприятие советской эпохи и стал «поступком» писателя в сложных исторических обстоятельствах?
Разговор приурочен к выходу книги Константина Поливанова «„Доктор Живаго“ как исторический роман».



- 00:00:51 Когда вы впервые прочитали роман и как сформировалась тема вашего исследования?
- 00:05:49 Какие идеи книги вызвали наибольший интерес и желание полемизировать?
- 00:09:24 Как начиналось исследование и какие изменения претерпело?
- 00:12:01 Столкнулся ли Пастернак с «сопротивлением материала», пока писал роман?
- 00:16:43 Мог ли Пастернак не дописать роман?
- 00:20:40 В каких взаимоотношениях «Доктор Живаго» находится с вершинами европейской модернистской прозы?
- 00:22:18 Почему Пастернак обратился именно к конвенциональному стилю письма?
- 00:26:42 Какую роль в книге играют стихи Юрия Живаго?
→ Читать полностью
Здравствуйте! В эфире очередной выпуск подкаста «Неизящная словесность», который по-прежнему ведут Денис Ларионов, редактор серии «Художественная словесность» издательства «НЛО» и Денис Маслаков, журналист и исследователь. Сегодня мы говорим об очередной новинке старейшей серии «НЛО» «Научная библиотека». Книга Константина Поливанова «„Доктор Живаго“ как исторический роман». Обсуждать эту книгу мы будем с автором. Здравствуйте, Константин Михайлович!
Константин Поливанов: Добрый день! Очень рад вас услышать.
Ведущий: А также с филологом, историком литературы Марией Гельфанд. Здравствуйте, Мария Марковна!
Мария Гельфанд: Добрый день!
Ведущий: И сразу я хотел бы начать с вопроса Константину Михайловичу. Собственно говоря, когда я впервые узнал о вашей книге, точнее сначала узнал о вашей диссертации, еще до выхода, «„Доктор Живаго“ как исторический роман», мне казалось, почему же никто до этого не писал об этой теме, но потом из вашей книги я узнал, что писали и до вас. И, собственно говоря, я понял, что эта очевидность продиктована вашими выводами и вашей темой, вашей книгой. Но я хотел бы начать издалека и узнать, когда вы и при каких обстоятельствах впервые прочитали роман, это очень интересно сейчас услышать, и когда вы решили писать о, собственно говоря, «Докторе Живаго» и как сформировалась именно эта тема, ведь на самом деле в 90-е годы, в 2000-е и не только, и в Соединенных Штатах, и в России, и во Франции и так далее, вышло колоссальное количество исследований о «Докторе Живаго».
Константин Поливанов: Ну, тут просто задали сразу несколько вопросов, поэтому попробую ответить на все и не очень длинно. Впервые роман я прочитал давно, то есть лет за десять до его советской публикации, хотя, в общем, наверное, мог бы и несколько раньше. В доме роман был, поленился раньше к нему обратиться. И в машинописи, поскольку моя бабушка печатала роман «Доктор Живаго», и итальянское издание на русском. Что касается моего интереса, мой интерес к «Доктору Живаго» возник как к полю исследования. Возник уже в 90-е годы, причем отчасти это было спровоцировано как раз обилием всевозможных публикаций, потому что мне, ну, собственно, мне и сейчас интересно, я думаю, что это будет осуществлено даже не в очень далеком будущем, сделать комментированное издание, такое академическое комментированное издание романа, в котором, разумеется, надо будет учитывать множество разных подходов и интерпретаций, c сотнями интересных из которых мне довелось познакомиться, всего их существенно больше.
Но действительно, то, что роман исторический или не исторический, это вызвало дискуссию еще в конце 50-х годов, когда роман вышел за границей, да, и Пастернака упрекали, что там нет исторических лиц, что он совершает множество анахронизмов. Я, действительно, в своей книжке показываю, что анахронизмы вполне не случайны, что в этом есть вполне продуманная авторская система. До 17-го года анахронизмов нет, после 17-го, после октября 17-го года анахронизмы появляются, вместе с тем исчезает церковный календарь, и все это потом, ну, грубо говоря, преодолевается в стихах, где возвращается обратный цикл, и церковный, и природный календарь.
Что же касается самого подхода и чем он был вызван, ну, наверное, отчасти такими моими личными склонностями. Думаю, что я, действительно, во всей мировой литературе, не то чтобы уж больше всего любил исторические романы, но действительно, всегда любил и «Войну и мир», и «Капитанскую дочку», и Вальтера Скотта, и Дюма, и как-то вот соприкосновение с самой фактурой исторического романа всегда мне было интересно, и как читателю, и как читателю статей об этом, статей, книг, монографий.
Как складывалась уже непосредственно книга-диссертация, понимаете, как всегда, есть какие-то некоторые вынужденные причины. Я как-то долгое время принадлежал к числу людей, которые высокомерно пренебрегали академическими степенями. Считал, что я и так умный. Кто мне будет ее давать, меня оценивать как кандидата наук? В какой-то момент в Высшей школе экономики мне стали сокращать срок продления контракта, сказав, что без степени уже нельзя. Тогда я обратился к коллегам из Тартуского университета, к которым и поступил в заочную докторантуру экстерном и начал быстро писать, но, с одной стороны, быстро писать, и при этом, разумеется, открывались какие-то вещи, вот действительно, о том, что огромное количество деталей сюжетов, микросюжетов, обстоятельств, которые описаны во время путешествия Живаго на Урал, за Урал, партизанского движения, что все это почти что буквально цитаты из мемуаров, из сборников архива русской революции берлинских, начала 20-х годов. Это было для меня таким радостным и увлекательным открытием.
Ведущий: Спасибо большое. Вопрос Марии Марковне. Когда вы, собственно, впервые прочитали книгу или диссертацию, «„Доктор Живаго“ как исторический роман», какие идеи у вас вызвали наибольший интерес, с чем хотелось полемизировать и насколько она повлияла на вашу работу
Мария Гельфанд: Спасибо большое. Я начну чуть издалека. Все-таки, когда я в первый раз прочитала «Доктора Живаго», потому что это тоже было такое счастливое совпадение со временем, мое взросление пришлось на пору перестройки, и, соответственно, «Доктора Живаго» я смогла прочитать уже в «Новом мире», в свои 15, наверное, лет. Я помню очень странное впечатление, потому что я прочитала практически весь роман, не отрываясь, но я читала, пропуская просто вот целыми страницами, которые я не понимала, как читают в 15 лет. Вот я их пропускала, я их пролистывала, да, а все, что касалось более или менее понятных мне каких-то вещей, там, не знаю, Ёлку у Свентитских, там, отношения Лары и Живаго и так далее, я просто сразу запоминала наизусть.
Вот у меня очень долгое время роман существовал в двух видах. С одной стороны, непрочитанным, потому что я, наверное, половину второстепенных персонажей бы не назвала, да, а с другой стороны, вот я могла из него, там, свободно цитировать какие-то большие куски прозы, просто они сразу запомнились. И потом как-то, ну вот, можно сказать, наверное, роман, там, более или менее был всегда в поле зрения, то есть я к нему возвращалась, перечитывала, там, разобралась, в конце концов, во всех сюжетных линиях, не с первого, а с прочтения, и вот я пробовала сегодня в связи с вашим вопросом вспомнить, когда я первый раз прочитала книгу Константина Михайловича, я не смогла точно сказать, потому что у меня слились в памяти три события, собственно, вот чтение этой книги, курс лекций Константина Михайловича на Арзамасе и курс лекций по доктору Живаго, прочитанный им в Нижегородской вышке, очень большой, очень объёмный, да, вот они примерно, вот, были, ну, в течение, там, вот, полутора-двух лет, наверное, вот таких вот связанных, да, я не знаю, что из этого было первым, но, действительно, слилось в одно впечатление от книги, тогда ещё она, вот, книга, как диссертация Тартуская, да, была очень большим, и оно, наверное, было связано, ну, во-первых, вот, как бы от наивных, я сейчас не прозвучала, с каким-то подтверждением, да, вот, того, что вроде бы, очевидно, вроде бы, в романе есть, но нигде я до этого с этим не сталкивалась, да, то есть, вот, просто вещи, которые там были названы, как бы, были озвучены, да.
Второй момент, который меня, действительно, поразил, вот эта концепция времени, что Пастернак совершенно сознательно восстанавливает время, восстанавливает эпоху, да, преодолевает вот эти годы безвременья, то есть, вот это, вот, рассуждение об анахронизмах не как о каких-то исторических случайностях, а как о такой вот цепи, о закономерности, оно очень важным каким-то оказалось, да, и вот с этой точки зрения вписывание, конечно, стихов именно в контекст исторического романа, вот, оно мне до этого, я бы сказала, что, наверное, было непонятным в такой степени.
А какие-то параллели я очень радовалась, там, когда находила подтверждение, потому что мне казалось, ой, ну, вот с Фадеевым, наверное, это же, вот, наверное, понятно, но это было понятно, на самом деле, потому что я, действительно, читала параллельно Пастернака дома и Фадеева в школе, да, поэтому для меня это более-менее был какой-то вот такой понятный сюжет, и тут я просто очень радовалась, когда обнаруживала вот какие-то такие совпадения или вот то совпадение, которое меня, действительно, тревожит, на которое нет ответа, да, про перекличку с "Белой гвардией", ну, вот в какой степени там вот эта сцена похорон матери, она на самом деле срезонировала.
Ведущий: Ну что ж, после такого расширенного вступления хочу задать Константину Михайловичу один короткий вопрос о методологии исследования. Расскажите, пожалуйста, как это исследование начиналось, претерпело ли оно какие-то изменения по ходу, и, в общем, какими выводами вы можете поделиться?
Константин Поливанов: Понимаете, что значит методология исследования? Любое исследование, если я строю, то используются все методы, которые могут понадобиться для исследования конкретного произведения, это вот моя такая вечная позиция, что какая может быть методология до того, как ты начинаешь работу. А дальше, да, мне были нужны исследования еврейского вопроса в России в связи с тем, что Пастернак, в общем, еще написавший там две части романа, объяснял сестре, что он сводит счеты с еврейством, и, так или иначе, еврейский вопрос возникает в романе, и возникает в романе, пишущемся на фоне кампании борьбы с космополитизмом, да.
Мне были важны соображения, наверное, одного из лучших теоретиков, можно сказать, ну или историков исторического романа Лукача, который объясняет, что, вообще говоря, анахронизмы присущи любому историческому писателю. Анахронизмы были у Вальтера Скотта, анахронизмы были у Дюма. Ну вот тут мне действительно было интересно, и это, разумеется, возникло в ходе работы, да, обнаружить логику анахронизма в пастернаковском тексте.
С одной стороны, разумеется, выбирая эту тему и обозревая круг существующих работ о Живаго, я понимал, что там будет разговор о прототипах, там будет разговор о том или ином отражении исторических событий, там будет, так или иначе, и диалог с Толстым, и с Пушкиным, и с Блоком, да. Но то, как конкретно это всё звучало, до какой степени, там, я не знаю, крушение гуманизма и интеллигенция, и революция отразились в восторженных репликах Живаго по поводу революции, до какой степени Блоковское в конечном итоге разочарование в большевистском перевороте, в котором он не хотел видеть революцию, до какой степени это всё вмонтировано в роман, разумеется, не бывает такого, то есть, наверное, бывает такое, что всю книжку сочиняешь заранее, а потом садишься её писать, но тут это было не так, это было такое вполне увлекательное исследование на протяжении трёх с половиной лет.
Ведущий: Известно, ну, то есть, это некое даже общее знание, ну, школьное, может быть, да, и вы с этого начинаете вашу книгу, что Пастернак много раз подбирался к некоему роману. На протяжении каждого десятилетия, насколько я понимаю, да, и только как бы где-то в определённый момент это, собственно говоря, вливается в уже как бы роман, который мы знаем как «Доктор Живаго». А до этого были повести его выдающиеся, замечательные.
Константин Поливанов: Были повести, но к тому же, понимаете, "Детство Люверс" – это действительно, вот по всем свидетельствам и складывается, что, в общем-то, правда так. Это вот то, что он оставил от задуманного и пишущегося большого романа о современности, да. Действительно, в конце 20-х он, я думаю, что не только думает и пишет "Спекторского" и повесть, но, в общем, что-то и набрасывает. Но Пастернак не врал, когда говорил, что не надо заводить архива, над рукописями трястись. Поэтому, скажем, там студенческие тетради случайно сохранились на чердаке у брата, да, вот сам бы уничтожил. Замечательная по политической значимости, с точки зрения "Русской революции", была найдена, опять же, там в 87-м году в бумагах брата, да, сам Пастернак её не сохранил.
Да, значит, вот, да, у нас можно быть уверенными, что он действительно приступал и не получалось. И думаю, что всё-таки здесь было очень важно, что конец войны в 45-м году, да, создал у Пастернака ощущение завершения эпохи, да, что вот теперь можно обо всём этом писать как о целостном. С одной стороны, с другой стороны, именно к этому времени он действительно перестаёт, как бы, требовать от себя быть, ну, актором, участником события этой эпохи. Он может позволить себе посмотреть на неё со стороны. Я, может быть, к этому вернусь, собственно, как соотносится это всё со стихами уже не в историческом плане, а вообще вот, что представляют собой стихи из романа.
Вот. Да, что думаю, что в современной исторической науке есть представление о том, что мировых войн было не две, а одна, что война, начавшаяся в 14-м году, кончилась в 45-м. Вот я думаю, что у Пастернака было близкое ощущение, что тенденции, заложенные и приведшие к войне 14-го, дальше вот, ну, развернулись до конца и пришли к своей развязке в 45-м.
Ведущий: В связи с этим вопрос, немножко со стороны, правильно ли я понял, что в некотором роде материал сопротивлялся тому типу романа, который задумал Пастернак?
Константин Поливанов: Что, значит, сопротивлялся материал? Вот тут, понимаете, опять же, такое Мария Марковна сказала, что она не берётся вспомнить всех второстепенных персонажей романа. Чем всегда приятно срезать студента, да? Ну, как вы не знаете, кто это такой, вы не можете сказать, в каком эпизоде он появляется, ну, до свидания. Но ведь на самом деле вот эта многоперсонажность, персонажи, которые появляются сперва неназванные, потом всплывают, потом появляются вот все эти бесконечные, ну, собственно, составляющие поэтику романа «Крещение и пересечение судеб», да? Простите, но это не романы Боборыкина, про которые Пастернак говорил, пишу вот по лекалам конца 19-го столетия, простите, это «Петербург» Белого.
Ведущий: Да, вот я когда думал как раз...
Константин Поливанов: Это не уход от «Петербурга» Белого, это такое соединение «Петербурга» Белого с таким, ну, почти что примитивом второй половины 19 века.
Ведущий: Угу. Я, кстати, когда готовился к нашей сегодняшней встрече, тоже сразу подумал про то, что это, как бы, наиболее гениальный текст доктора Живаго, хотя так сразу и не скажешь, на первый взгляд, а это возникает понимание чуть позже.
Константин Поливанов: Да, возникает, возникает. Уверяю вас, что «Петербург» Белого – родоначальник и "Белой гвардии", и "Живаго". Был бы Шолохов немножко пообразованнее и...
Ведущий: Его тоже, ну да, и плюс ещё ориентальный опыт.
Константин Поливанов: Понимаете, это же некоторый закон присутствия текста в воздухе. Можно не читать, во-первых, еще большой вопрос, не читал ли Шолохов «Петербург», а во-вторых, ну, что-то начинает носиться в воздухе и помимо чтения, да?
Ведущий: У меня есть провокационный вопрос, Константин Михайлович, к вам, и к Марии Марковне. Могла бы возникнуть ситуация, что роман не был бы дописан, как не были дописаны предыдущие некоторые части, фрагменты, утерянные, в том числе, о которых вы пишете, и стать чем-то иным или вообще ничем не стать? Элемент провокации в этом вопросе, конечно. Мария Марковна, что вы здесь скажете?
Мария Гельфанд: Не знаю, очень сложный вопрос, да? Тут, конечно, обязательно Константин Михайлович должен отвечать на вопрос такой сложности. Но думаю, что психологическим образом, да, вот если мы как-то попробуем реконструировать вот поведение Пастернака, письма его, да, в период работы над "Доктором Живаго" и потом, мне кажется, что нет. Действительно, то определение, которое ему Окутюрье даёт, да, «роман-поступок», что это уже роман, в котором надо было выговорить всё до конца, что это роман, который как бы не предполагал какого-то компромиссного решения и как раз в этом плане не предполагал ни оконченности, ни завершённости.
И с самого начала ведь роман так задумывался, что вот я там его начну от 1903 года, да, от 1905, и доведу его вот до наших дней, то есть прям выведу этот исторический роман в такую вот откровенную современность. И действительно, когда ведь Шаламов пишет, что ещё два-три таких романа и русская литература спасена, но её было от чего спасать, Пастернак, в общем, осознавал, мне кажется, свою миссию какую-то в этом плане, когда роман дописывал. И поэтому вот все эти высказывания, которые там на первый взгляд могут шокировать, когда Живаго думает, не проговаривает правду вслух друзьям, что единственно великое – это то, что они живут в одно время с ним, да, это вот проекция на себя слов Христа в финальном стихотворении, это всё связано, ну, не с преувеличением своей миссии, да, а скорее со взятой на себя ответственностью. Вот он на себя эту ответственность взял, он её доводит до конца. Ну, может быть, конечно, могли какие-то обстоятельства там катастрофические быть, которые препятствовали бы завершению романа, да, но только если это обстоятельства, ну, вот какие-то, которые уж совсем бы не зависели от Пастернака, которые бы просто не дали ему роман завершить.
Константин Поливанов: Ну, я бы, наверное, согласился полностью с Марией Марковной, да, вот у нас есть аналогичная ситуация. Вот Горький не смог завершить роман "Жизнь Клима Самгина", хотя до... был жив, ещё вполне функционировал, ещё почти семь лет, да, после того, как остановился. Вот как остановился, и последнюю часть дописать, ну, вот не сложилось, не получилось, не получалось. У Пастернака явно было понимание, другое дело, что по ходу действия романа манера, скажем, взаимоотношения с окружающим миром менялась. Роман в его первом замысле, на него был заключён договор с редакцией журнала "Новый мир", уверяю вас, что Пастернак рассчитывал, что он его опубликует. К концу 1955 года, когда он роман дописывает, ещё не было 20-го съезда, он не знал, что уже можно писать. Оказалось, что всё равно нельзя. О ГУЛАГе, ежовщине, коллективизации, которая оказалась ошибкой, в чём нельзя было признаться. Но вот эта вот резкость пастернаковских оценок, появляющаяся в особенности, собственно, в эпилоге и последней части, в общем, отчасти напоминает слова Лары, обращённые к Юрию Андреевичу раньше, вы о революции думали иначе. При всём том, что для Пастернака революция и в 1955-1956 году сохраняла свой ореол, нравственная осмысленность это выделяло, что, может, так оно и было. Как бы страшно это ни казалось.
Ведущий: В каких взаимоотношениях, собственно говоря, и связано ли это было с его кругом чтения и так далее, его текст находится как бы, ну там, с вершинами европейской модернистской прозы? "Человек без свойств" и так далее и так далее? Или вы не исследовали этот вопрос
Константин Поливанов: Нет, это не исследовал специально, но, несомненно, находится. Несомненно, находится. Пастернак внимательно следил. Правда сказать, больше мы знаем о том, как следил за современной европейской поэзией, потому что не только следил, переводил, рекомендовал сестре купить те или иные книжки в 20-е годы, что-то прислать ему, что-то прочесть самой. Простите, пожалуйста, эпиграфом из Пруста открывается книга стихов, написанная вслед за "Доктором Живаго". Так что Пруст для него — писатель, за которым он следил и до начала писания романа, и после завершения романа, когда говорил, что все поиски утраченного времени написаны ради последней части обретенного времени. И тоже не случайно. Это, в общем, до известной степени сходный взгляд на время. На самом деле, один из замечательных филологов и один из первых переводчиков Пастернака, Мишель Окутюрье, писал работу о Пастернаке и Прусте. Это один из материалов, который необходимо будет учитывать при комментировании романа.
Ведущий: Спасибо большое. Хочется задать обоим нашим гостям вопрос про стиль письма романа. Пастернак обратился к достаточно конвенциональному, можно даже сказать, может быть, традиционному стилю письма. Но были и другие традиции письма об истории. Допустим, вослед Белому орнаментальная проза или документалистская проза. Насколько выбор Пастернака продиктован идеолого-эстетическим контекстом? А насколько глубинной авторской установкой? Мария Марковна, давайте начнем с вас.
Мария Гельфанд: Мне кажется, что если здесь вообще речь идет о сознательном выборе, потому что если мы вспомним вот эту фразу, что Юра тогда еще Живаго всю жизнь мечтал о большой книге прозы и пока отделывался от нее набросками в виде стихов. Вот эта большая книга прозы должна была вылиться из-под его пера каким-то естественным образом. Я думаю, что забота Пастернака была заботой не только о том, чтобы максимально полно выговориться, обращая минимальное внимание на форму, но о том, чтобы обрести каким-то образом читателя. То есть все эти его оговорки о том, что это там трамвайное чтиво, им нельзя полностью доверять, но и полностью сбрасывать их со счета тоже нельзя. Ему нужно было написать ту книгу, которую бы действительно читали. По крайней мере, видимо, это было такой изначальной установкой, пока он действительно планировал в "Новом мире" опубликовать роман и так далее. И там действительно есть какие-то шокирующие своей простотой фрагменты, когда чеховская фраза «Мороз крепчал» звучит совершенно серьёзно, не в пародийном контексте. С другой стороны, это действительно такая сложная модернистская проза. Может быть, Пастернак старался писать просто, но он настолько сложно мыслил, что это порождало такой удивительный гибрид. По-моему, очень важный такой показатель. Мне кажется, что никто потом не попробовал этот стиль имитировать. Стиль "Петербурга", допустим, Белого, его много потом имитировали в разной степени. И о Пастернаке отчасти это можно сказать. А вот именно попробовать воссоздать что-то похожее на "Доктора Живаго", вообще на пастернаковскую прозу, то ли никто не попробовал, то ли ни у кого не получилось. Это было чем-то совершенно уникальным. Но, я думаю, между этими двумя установками у него было важно выплеснуться, вы говорите, самое главное, и вступить в какой-то диалог с читателем. Что и получалось.
Ведущий: Константин Михайлович?
Константин Поливанов: Понимаете, я думаю, зацепившись за последнюю часть вашего вопроса, в какой степени это было идеологической позицией. Несомненно, это было идеологической позицией, но тут как раз, понимаете, с одной стороны Пастернак, вот Мария Марковна уже упомянула, там есть просто такие заимствования из романа "Разгром", равно как и такие забавные переклички с романом Федина "Братья" и, наверное, с Булгаковым, переклички с прозой 20-х. Пастернак был вежливым соседом и позднюю прозу Леонова и Федина, видимо, позднюю прозу Леонова и Федина читал, но вот ее следов у него даже в виде таких шутливых отголосков не найти. Ранняя проза Леонова и Федина вполне находит, равно как Алексей Николаевич Толстой, вполне отзывается Алексеем Николаевичем Толстым. Явная такая почти враждебная перекличка, ну, как это называется, диалог и несогласие. А с Фединым и Фадеевым почему бы нет? Их используют, их подгребают. Опять же, вот ровно для того, что сказала Мария Марковна, взять все, что будет прочитано с целью вообще сказать главное. Это не... вот использую весь материал, чтобы это главное сказать. А главное – это сказать, действительно, о человеке, об эпохе, ну, и, до известной степени, о своем себе. Да, вот о том, каким поэт должен был бы быть. Альтернативная биография.
Ведущий: Уже ближе к завершению разговора нельзя пройти мимо, собственно, последней части текста, о которой... Это "Стихотворения Юрия Живаго". И у меня, на самом деле, просто очень простой вопрос. Что это, что это, вот как бы так, относительно всего романа, с вашей точки зрения? Это, конечно, и Мария Марковна, и Константин Михайлович вопрос. И почему это важно?
Константин Поливанов: Ну, да, я уже начал говорить полчаса назад. Я бы, действительно, продолжил бы, но, может быть, Мария Марковна скажет сперва.
Мария Гельфанд: Нет, нет, нет, продолжайте.
Константин Поливанов: Я хочу напомнить, хорошо известный, многократно повторенный самим Пастернаком, а дальше вслед за ним многими, кто о нем писал, что Пастернак твердил, как попугай: "Я не люблю своего стиля до 1940 года. Всё, что я написал до 1940 года, никуда не годится". Понимаете, вот можно в этом видеть презрение к книгам "Сестра моя жизнь" и "Темы и вариации" и "Второе рождение", а можно увидеть нечто совершенно другое. О том, что, в отличие от своего героя, ну, от тех стихов, которыми в итоге был очень доволен, стихами Живаго, всё остальное было не то. Вот 20 лет все мы, и я в том числе, писали не то. Наконец, я понял, какие стихи надо писать, и отдал их герою своего романа. И это абсолютно параллельно вот этой, что я прожил жизнь не так, что нужно было бы прожить жизнь, как её прожил мой герой, уклоняться от участия в зверствах, чтобы вообще даже не то что... Ну, как Живаго не только на службу врачом не хочет устраиваться, ну, а если устраивается, то тут же с нее увольняется начинать дрова носить, а получать квартиры, дачи, понимаете, тогда бы и не возникла идея, что к нему кто-то может поехать подписывать письмо с требованием расстрела. Да, он отказался, но письмо вышло с его подписью. Вот он прожил жизнь, которая допускала это. Его герой проживает жизнь, которая этого не допускает. И герой написал те стихи, которыми он, Пастернак, был... Ну, то есть стихи, которые он отдаёт герою, это стихи, которыми он абсолютно доволен. Вот ни разу ни одного тупого слова про эти стихи сказано не было. Хотя уж... Чего он только не говорил там. Даже в тот момент, когда там книжка вышла про темы и вариации, книжку одолело стремление к понятности. Одна из самых, наверное, непонятных книг Пастернака.
Мария Гельфанд: Мне кажется, что тут ещё отчасти такой момент, как Пастернак эти стихи вводит в роман. Потому что они действительно ему, видимо, до такой степени нравятся, как-то его устраивают и завершают это строение романа, что какие-то стихи, они просто... Такое ощущение, что Пастернак забывает их вписать в роман. Дать им какую-нибудь минимальную мотивировку биографии Юрия Живаго. Ну, как мы ничего не знаем про "Белую ночь", например, в контексте романа. А иногда там есть какие-то удивительные переклички. Ну, например, стихотворение "Сказка", которая 13-е в цикле, оно и написано на 13-й день пребывания Лары и Живаго в Варыкино. И, может быть, тоже это случайность, но тоже в свою очередь значимая. Или там "Гамлет", которым открывается тетрадка, но он написан-то, по идее, ведь последним. Кто-то должен был знать последнюю волю внезапно умершего Юрия Андреевича и составить эту тетрадь стихов вот в такой последовательности. То есть, мне кажется, что вот то, что Пастернак как бы минимально здесь заботился о таком жизнеподобии, когда, как, при каких условиях герой написал стихи, это какое-то вот дополнительное подтверждение тому, что, ну, по сути, они уже существовали. Их надо было только встроить, ввести в роман.
Мария Гельфанд: Такая контрастная история, наверное, по отношению, например, к Набоковскому "Дару", где, собственно, и наоборот ранние детские стихи вводятся, и они оправдываются, ну, такие полудетские, юношеские, и они как раз оправдываются тем, что вот теперь автор совпал с героем. А у Пастернака с точностью до наоборот. Герой прожил ту жизнь, которую надо было прожить, и написал вот такие идеальные стихи, а когда и как – уже не наше дело, условно. Как-то так.
Константин Поливанов: Ну, уж не говоря совсем действительно таких простых решениях, но они обеспечивают герою жизнь или бессмертие. Тем не менее, вот несмотря на всё то, что Пастернак действительно не удосужился соотнести прозу и стихи, что это другой язык, язык, понятный автору лирики. И думаю, что вот Мария Марковна сказала, что никто не пробовал подражать стилистике Живаго, и я думаю, что подражать стилистике Живаго смог бы только поэт. Ну вот, соответственно, уж если на то пошло, можно было бы ожидать элементов подражания стилистике Живаго в прозе Гандлевского и Кибирова, хотя он, наверное, не очень присутствует.
Ведущий: Спасибо большое. И наш подкаст подошёл к концу. А сегодня мы, напомню, говорили о книге Константина Михайловича Поливанова «Доктор Живаго как исторический роман». На момент выхода этого выпуска эта книга уже выйдет из типографии и будет доступна к продаже на сайте НЛО. Слушайте наш подкаст в Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке и других стриминговых сервисах. Благодарю ещё раз наших сегодняшних гостей. До встречи в следующем выпуске.
Константин Поливанов: Спасибо.
Мария Гельфанд: Спасибо.
