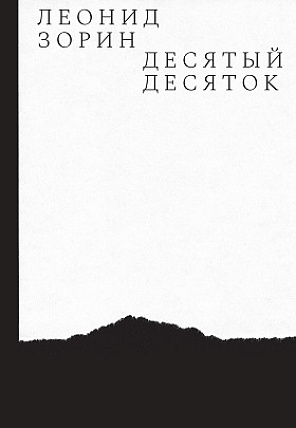Леонид Зорин: писательство как modus vivendi
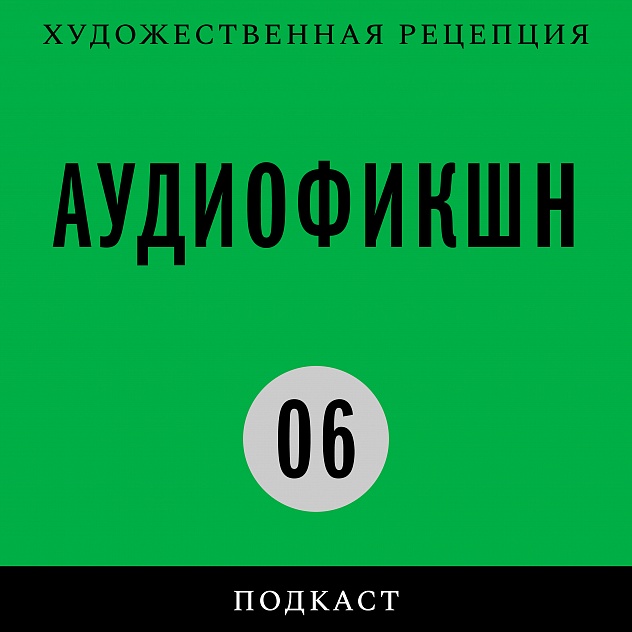
Подкаст ведут: Денис Ларионов, Денис Маслаков.
В гостях: Андрей Зорин.


- 00:00:33 Представление гостя
- 00:01:04 Насколько уникален пример творческого долголетия Леонида Зорина?
- 00:04:27 Как менялись жанры, в которых работал Зорин
- 00:08:29 Поздний приход к прозе — творческая эволюция или цензурные опасения?
- 00:14:06 Говорим о «парадоксе Зорина»
- 00:21:13 Параллели с Лидией Гинзбург
- 00:28:55 Об исповедальном финале книги
→ Читать полностью
Денис Ларионов: Здравствуйте! Это подкаст «Аудиофикшн», подкаст издательства «НЛО», в котором мы говорим о современных художественных новинках, культовых книгах и незаслуженно забытых авторах, которых мы возвращаем читателю. Ведущие подкаста — поэт, редактор серии «Художественная словесность» «НЛО» Денис Ларионов.
Денис Маслаков: И Денис Маслаков, журналист и исследователь.
Д. Л.: Сегодня у нас в гостях Андрей Леонидович Зорин — историк, филолог, литературовед, важный автор и добрый друг издательства «НЛО». А говорить мы будем о последней книге его отца, Леонида Зорина, которая вышла в нашем издательстве в прошлом году. Леонид Генрихович прожил долгую жизнь, девяносто пять лет, и даже на десятом десятке не перестал писать прозу — не мемуарную, а художественную. Так эта книга и получила символическое название «Десятый десяток». Андрей Леонидович, добрый вечер.
Андрей Зорин: Добрый вечер.
Д. Л.: И начать я бы хотел с такого довольно напрашивающегося вопроса. Случай Леонида Зорина в литературе — это уникальный пример продуктивного творческого долголетия. Знаете ли вы подобные примеры в мировой литературе? И к чьим текстам, написанным на десятом десятке, мы еще можем обратиться?
А. З.: Вы знаете, случай, конечно, очень редкий. Но все-таки абсолютно уникальным я бы его, может быть, не назвал бы. Знаменитая Ида Поллок писала до ста пяти лет. Последний ее роман был напечатан — где-то около ста лет ей было. Недавно скончавшийся американский писатель Герман Вук издал свой последний роман — ему было девяносто семь. Так что такие случаи бывают. В русской литературе вышли два романа Даниила Гранина, когда ему было за девяносто. Хотя я не знаю, когда они были написаны. Может быть, он старые романы свои издал какие-то. Это я не могу сказать. Но тем не менее такие случаи бывают. Но тем не менее это, разумеется, очень редко. И <нрзб> в таком объеме, может быть, вообще характерно только для новейшей литературы. Раньше столько не жили. Это достижение последних десятилетий — вот такие длительные сроки жизни. Но главное, я даже вот здесь вот с таким интересным… Мне кажется, не вот даже время, когда он продолжал работать над прозой, а общая продолжительность литературной карьеры… Отец мне говорил, что он начал писать в четыре года, заниматься словесностью, так что девяносто лет он сидел за столом с пером. Первая его книжка вышла, когда ему было девять лет, так что, значит, восемьдесят пять лет он публиковался последних в своей жизни, и это, конечно, очень долго и очень много лет. И, сколько я его помню… Ну, ему было, конечно, когда я его помню, уже за тридцать, уже всё, но железная дисциплина ежедневной работы была у него всегда. Ну, может, в молодости не так ежедневно, но, сколько я его помню, всегда каждый день никакие обстоятельства, никакие болезни… Он любил рассказывать, что в больнице, где его много раз оперировали, он садился писать в постели на следующий день после операции. Всегда, когда он был в сознании, каждый день без перерывов он всегда работал. Это вот такая стопроцентная дисциплина, причем в интервью он любил говорить, я знаю и много раз это повторял, что он не верит во вдохновение, что это совершенная ерунда всё, фантазии, разговоры, а просто надо работать, и это такое было правило его жизни, что всегда за столом каждый день и до последнего. Пока последняя болезнь его не сломила, он уже не мог вставать, но накануне того, как он попал в последний раз в больницу, он лежал в постели и перед ним была вот его записная книжка, в ней он еще продолжал писать.
Д. М.: Очень интересно. Потрясающая, действительно, судьба. Девяносто лет. Это точно рекорд творческой деятельности — девяносто лет. Я хотел бы немножко перевести ракурс разговора, собственно, в вашу профессиональную стихию как историка, филолога и в том числе историка эмоций, автора исследования о появлении героя, который исследует некий эмоциональный фон определенной эпохи. И как на ваш взгляд, вот если рассматривать пьесы Леонида Зорина, такие, как «Варшавская мелодия» и не только, с одной стороны, с другой стороны, его более интроспективные прозаические тексты, романы, «long short story» то, что можно назвать. Как бы вы, с точки зрения ваших, собственно, профессиональных интересов, академических интересов, могли бы описать, рассмотреть эту довольно обширную территорию, которую разметил Леонид Зорин?
А. З.: Вы знаете, конечно, при таком огромном времени работы и таком довольно обширном наследии, он написал много, и далеко не все опубликовано… Законченные вещи в последней части жизни в основном опубликованы. Но это очень разнообразно. И, конечно, и он сам говорил, что ему не очень интересно было бы все время работать в одном ключе. Он менял жанры. Пока он в основном работал в драматургии, он писал и комедии, и драмы, и исторические пьесы, и скетчи, и фарсы. И он многое заделал. Он был профессиональный литератор. Он делал экранизации, инсценировки. Жанровый диапазон был огромным. Потом он уже, так сказать… В прозе он начинал, насколько я помню, с юмористических рассказов. Они перепечатывались параллельно с пьесами. Потом он начал писать, тоже параллельно с драматургией, первые романы. Пока он не перешел в основном на прозу, хотя последние пьесы написаны тоже уже в самом позднем возрасте, но он уже, в общем, в основном уже в это время занимался прозой. Так что и жанрово, и эмоционально полумемуарной прозой, исторической прозой… У него много биографической прозы. И жанрово, и мемуарно, и по настроению в диапазоне от очень трагических и мрачных вещей до юмористических и сатирических. <нрзб> По эмоциональному регистру диапазон очень широкий, не говоря уже о том, что всю свою жизнь, все девяносто лет, отец писал стихи. Он никогда не рассматривал это как главную часть собственной деятельности. Это всегда было немножко для себя. Но тем не менее в кое-каких его записных книжках изданных кое-где есть его стихи. Есть маленькая книжечка стихов, вышедшая уже в самые последние годы. Так что действительно он, по-моему, стремился испытать… Ну и киносценарии, естественно. Работал для кино. Так что он писал всё, и диапазон очень широкий. Поставить какие-то рамки здесь мне, конечно, будет затруднительно.
Д. Л.: «Давным-давно, в двадцатом столетии, шагал я, совсем молодой человек, по стылой осенней московской улице, и на душе моей было смутно.
То было моё нелёгкое время, не мог совладать со своим одиночеством, с чужестью этому жёсткому городу, с моей бездомностью, моей бедностью, со всей этой сумрачной сумятицей, клубившейся в озябшей душе. Не видел себя ни сегодня, ни завтра, не мог разобраться с самим собой. Казалось, на меня налетела какая-то непроглядная туча.
И словно колотилась в висках злая, тревожная догадка: я себя щедро переоценил, вообразил себя победителем, на самом деле я не таков. Я сочинил себя самого и заигрался, теперь я должен расплачиваться за эти игры.
И вспомнились мне слова поэта: «И не надо надеяться, о моё сердце! И не надо бояться, о сердце моё!»»
Леонид Зорин, из книги «Десятый десяток».
Д. М.: А вот как раз про отношения между прозой и драматургией. Насколько понятно по открытым источникам, он обратился к романной, в общем, к крупной прозе после пятидесяти лет. И как на ваш взгляд, вот этот поздний приход к прозаическим текстам был следующим шагом творческой эволюции довольно органичным, или долгое неписание прозы было связано с каким-то опасением, в том числе цензурным, быть неопубликованным или непонятым, может быть, своей аудиторией, которая полюбила «Варшавскую мелодию», «Покровские ворота» и так далее, и так далее?
А. З.: Вы знаете, нет, я не думаю, что дело здесь просто в цензуре. Эта цензура была очень важным фактором в советской жизни, но дело в том, что театральная цензура была жеще. Цензоры больше боялись театра, чем прозы. В прозе больше можно было, пожалуй, всегда разрешить. И дело здесь, мне кажется, совершенно <нрзб> не в цензуре. Одна сторона дела, что в молодости отец, хотя я его еще помню таким, но все равно он был очень театральным человеком. Он обожал театр. Он начинал, как всякий ребенок, с детских стихов. Он начинал писать стихи. Но очень рано, еще в тинейджерском возрасте, он начал писать для театра. Он с четырнадцати лет был главным в семье зарабатывателем денег. Он зарабатывал больше всех в семье, больше родителей. Он работал, писал для бакинского театра, еще живя в Баку, но он любил театр, он органично себя чувствовал в театральном пространстве. Для него это был его мир. Он дружил с актерами. Он любил читать сам. Когда ставили его пьесы, он ходил на репетиции. Театральное воплощение и, он говорил, мгновенная реакция зала, что не то, что ты думаешь, что вот у меня есть где-то далекий читатель, а ты сразу же видишь, как зритель реагирует, и он говорит, здесь обмануться невозможно. В прозе можно обмануться — ведь кто-то меня читает, кто-то меня ценит. А тут ты сразу всё видишь: как на тебя реагируют и люди относятся, и как слышат. И для него было театральное вот такое, театральный мир очень органичен. Я еще помню в своем таком детстве и в раннем подростковом возрасте дом, переполненный актерами, чтение, читки дома, папа, читающий пьесы для театров, хотя первыми слушателями обычно бывали мы с мамой, но потом он читал актерам. Актеры за столом. Дикие крики, под которые мне надо было засыпать. Актеры — люди шумные, пьющие. И так далее. Вот все это было какой-то важнейшей частью жизни. С возрастом он стал все больше и больше отходить от театра. И он говорил, что тут мотивы были, как мне кажется, художественные. С одной стороны, он говорил, что ему надоело в обязательном порядке ставить точку на пятьдесят седьмой странице… Эту пятьдесят седьмую страницу я очень хорошо запомнил. Что больше пятидесяти семи страниц пьеса не может быть. И он хочет иметь возможность писать столько, сколько ему нравится, а не быть жестко втиснутым в этот канон. И плюс к этому второй момент: он очень много, все больше и больше хотелось — проза его с самого начала была интеллектуальной, исповедальной — делиться мыслями, рассказывать, не отдавая, не делясь, не прячась за героем, а говорить от себя, своим голосом и прямо, непосредственно делиться мыслями, что для театральной сцены невозможно. Так что основные факторы были художественными. Хотя любопытным образом, если не считать юмористических романов, отец начинал прозу писать… Он начал писать прозу с больших романов, так что он написал два, по-моему, сначала больших романа, так что тезис «не хочу останавливаться на пятьдесят седьмой странице» был понятен. Но, когда он нашел свой прозаический формат… У него были и короткие рассказы, и так далее, но он совершенно прав, что его главный прозаический формат была long short story. Он этот жанр полюбил, и в последние десятилетия в основном, процентов восемьдесят, может, девяносто того, что он писал, было в этом формате. И здесь чувство размера было точно таким же, и они могли, в общем, быть короче пятидесяти семи страниц. До пятидесяти семи страниц пресловутых, на которых он не хотел останавливаться, он обычно не добирался. Он писал короче и быстрее, быстрее кончал и так далее. Хотя были и романы и в поздние годы, превышавшие этот объем. Но в основном он тоже стремился к такому лаконическому способу выражения. Но мне представляется, что это были изменения, во-первых, художественные поиски, и, во-вторых, образа жизни. С годами его все меньше и меньше тянуло в театр, хотелось жить вот этой шумной жизнью, хотелось больше уединения, независимости внутренней. Кроме того, вот как он говорил, «зависеть от актеров». Вот он играет плохо, а ты сидишь в зале и мучаешься, что твои слова и так далее… Вот эти вот вещи определили в конце концов его уход из театра такой медленный. Хотя пьесы его продолжали ставиться до конца жизни, но он в театры в последние годы ходил с трудом. Его даже на его пьесы, на его премьеры вытаскивали с невероятными усилиями. Ну в самые последние годы ему и физически это было тяжело. Но активное нежелание ходить в театр было уже и до этого. Он как бы перенасытился театральным миром. Так что я думаю, что причины в основном были вот эти.
Д. Л.: Спасибо. Мы когда готовились к этой записи, мы изучали некоторые материалы новостные, информационные и столкнулись с таким понятием, как «парадокс Зорина». Изначально вопрос за скобками, кто автор этого термина. И, собственно, вопрос в связи с «парадоксом Зорина». Существует широкий интерес, всенародная любовь к пьесам, которые впоследствии в некотором случае стали фильмами, как «Покровские ворота» или «Варшавская мелодия», которую поставили в десятках театров, и этот «парадокс Зорина» как бы отодвигает в сторону фигуру автора, который, судя по прозаическим текстам, относился к себе иначе. Не было ли здесь какого-то конфликта для Зорина?
А. З.: В этом конфликта не было, на мой взгляд. Сразу, пожалуй, оговорюсь, что я не знаю, кто автор. Мне, наверно, надо было бы знать, но я не знаю, кто автор этой формулы. Здесь ничего, к сожалению, ответить на этот вопрос я не могу, хотя я ее слышал. Но мне кажется, что здесь не было особенного парадокса. Вообще говоря, это нормальная ситуация, когда у того или иного автора какие-то вещи становятся чрезвычайно популярными, а какие-то, может быть, менее популярными. И не всегда наибольшую популярность приобретают самые любимые вещи. Еще до перехода к прозе, когда все-таки, ну, в основном и почти исключительно отец себя ощущал драматургом, он мне говорил, что «Варшавская мелодия», когда она была самая популярная из театральных его постановок… Популярностью «Покровские ворота» в основном обязаны феноменальному успеху фильма Козакова. Ему предшествовал спектакль на Малой Бронной, Козаковым же поставленный, очень удачный и хороший спектакль, и хорошо сыгранный, и шедший с успехом, но вот такой грандиозной популярностью это стало пользоваться после фильма телевизионного, Козаковым поставленного. Но он говорил, что ему всегда казалось, что это не самая его любимая пьеса и не самая удачная из его пьес, и у него даже была какая-то легкая ревность, что более значимые для себя вещи не так прозвучали. Особенно, я знаю, это была такая проблема всей его жизни — он переживал за две пьесы. За «Медную бабушку», которая, с его точки зрения, не нашла до конца адекватного сценического воплощения. Видимо, готовился спектакль, в котором Пушкина должен был играть Ролан Быков, и он играл, как рассказывали те, кто видел — я не видел, — феноменально. Это был грандиозный успех. И был бы. Но спектакль был снят просто в середине процесса работы. Министерство культуры запретило. Очень трагически это переживал. И потом он… Спектакль был <нрзб>, как говорили в советское время, пробит и поставлен Олегом Ефремовым, который сам играл Пушкина. Там же, во МХАТе, где должен был быть спектакль с Быковым, он шел, он имел успех, но очень ограниченный. В общем, так не прозвучал, как отец рассчитывал. Потом была телевизионная постановка, но тоже вот так вот не выстрелившая, как «Покровские ворота» или «Варшавская мелодия». Отец много раз говорил, что это его любимая пьеса и что ему кажется, что в ней он превзошел сам себя, и у него было, как и у многих русских интеллигентов и писателей, очень трепетное отношение к Пушкину, и вот он взялся написать о Пушкине, написал пьесу о Пушкине, и ему казалось, что это лучшее, что он написал, и он очень переживал, что эта сценическая судьба этой пьесы не была столь удачной. И вторая такая же сильная, может быть, близкая по остроте переживания… Был, так и состоялся, и прошел, но прошел один раз. Это была постановка пьесы, более известной сейчас как «Дион», но первоначально она называлась «Римская комедия». Она была поставлена в Большом драматическом театре. Ее поставил Товстоногов с Юрским в роли Диона, Дорониной в роли главной женской роли, Стржельчиком и Лебедевым, и это был феноменальный успех. Отец рассказывал, что две тысячи человек, которые были на предпремьерном спектакле, тогда разрешалось проводить предпремьерные спектакли на публике, потом эту практику запретили, или там сотни людей пошли его провожать на вокзал. Была на спектакле, он рассказывал, Ахматова, которая сказала спутнику своему, ему потом передали: «Спектакль не выпустят». И удивленный спутник спросил: «Почему? Посмотрите, какой успех». На что она ему сказала: «Вот поэтому и не выпустят». Сказала, значит, Ахматова и оказалась права, как с ней это часто бывало, и спектакль не выпустили. Там была довольно драматическая история, которую я не буду пересказывать сейчас. Его не выпустили. Потом его опять пробил Рубен Симонов. Она вышла в Москве, где замечательно играли Плотников и Ульянов. Был хороший спектакль, долго шедший с большим успехом, но тут же, значит, потом, в последние годы жизни отца, Хомский, который был его близким другом, поставил этот же спектакль в театре Моссовета. Все это было хорошо, ему нравилось, но… Это был гениальный спектакль, и Товстоногов покойный тоже говорил, что это его лучшая работа. Очень уверенно говорил, что лучшая, что последняя в жизни это была русская комедия, и он уже весь… Вот совпало, <нрзб> и для папы это были две самых, может быть, главных пьесы, и он был, в общем, для него было тяжело, что сценическая судьба их не сложилась. В поздние годы он говорил, что напрасно он был так неблагодарен и что надо было быть благодарным тем произведениям, которые прозвучали, которые выстрелили, которые сыграли на полную катушку, но ему не казалось, что это его самые значимые вещи. «Варшавская мелодия» вообще, так сказать, — интересная у нее была история. Он писал другую пьесу, в которой был монолог героя, рассказывавшего историю «Варшавской мелодии», вот что с ним было такое в жизни. И, написав этот монолог, он сказал, что он понял, что это невозможно, что это отдельное произведение, прервал работу — это была пьеса «Коронация». Прервал работу над «Коронацией» и сказал, за шесть дней написал «Варшавскую мелодию». Совершенно не собираясь этого делать еще буквально накануне начала. Вдруг ему показалось, что нельзя это оставить в одном монологе, надо написать отдельную вещь, как это все было. Потом он вернулся к этому и написал пьесу «Перекресток», о встрече героев еще через тридцать лет, которая шла на сцене театра Ермоловой с Андреевым и Быстрицкой.
Д. М.: Я хотел бы вернуться, собственно, к книге «Десятый десяток» и вообще как бы, собственно, к прозе. Вот когда читаешь эти небольшие повести, вот собственно, long short story, и это в некотором роде опять же связано с вашими академическими интересами, связанными с Лидией Яковлевной Гинзбург. И, когда я читал, собственно, вот в очередной раз, готовился к сегодняшней передаче, мне показалось, что некоторая близость… И надо сказать, что Дмитрий Быков еще лет пятнадцать назад об этом упомянул вскользь, и я увидел уже после того, как сам тоже об этом подумал. И, на ваш взгляд, вот не перенес ли Леонид Зорин некоторые, вот как вы уже сказали про монолог, некоторые приемы или черты, собственно, драматургические приемы в, собственно, свои прозаические тексты? Которые, вот если по аналогии с Лидией Гинзбург, такой, может быть, не совсем корректной аналогией, но я позволю себе, которая перенесла некоторые формалистские приемы анализа, методы анализа, на анализ социальной ткани, там, общества советского, людей и так далее, так и, собственно, Леонид Зорин перенес ряд драматургических приемов для того, чтобы глубже, так сказать, проникнуть в своих героев, которые как бы так или иначе кажутся его отражениями, его как бы альтер эго, на которые он смотрит со стороны, как бы с третьего лица.
А. З.: Вы знаете, здесь я бы сказал… Разные перспективы. Я понимаю, о чем вы говорите. Сравнение с Гинзбург меня радует. Я сразу должен возразить, со своей любовью к творчеству Гинзбург. Надо сказать, что вы спрашивали о поздно, так сказать, работающих авторах. Гинзбург не дожила до девяноста. Она умерла — ей было восемьдесят восемь. Но она тоже работала до последней секунды своей жизни, очень интенсивно, много писала и печаталась. Но там история другая, потому что она печататься начала после восьмидесяти лет, во всяком случае, как прозаик. Как литературовед она печаталась и раньше. Поздний дебют такой. Но что касается параллели, возможно, она есть, потому что… В особенности в поздней прозе очень много стремления объединить фикшн и нон-фикшн. Полупрозаический, полумемуарный рассказ о себе с какими-то вот теми или иными оговорками и так далее. Действительно здесь есть похожие какие-то, может быть, ноты. Что касается драматургической стороны, как мне кажется, в прозе, здесь я бы разные стороны подчеркнул. С одной стороны, да, безусловно, и это осталось до последних дней у отца, он был уже немыслим без диалога. И в прозе его диалог имеет большое значение. Он следил за репликами. Они должны были быть отточенными. Монологи он мог себе позволить от первого лица какие-то, но герои говорили всегда, так сказать, так, как они… Он очень следил за речью. И есть какие-то вещи у него, написанные просто почти как пьесы, которые вполне могут быть просто в диалогической форме. Питерский театр «Остров», я не видел спектакля, поставил его повесть «Островитяне». Там, как вышло, вообще ничего делать-то не надо. Там она уже как пьеса была практически, так сказать, написана. И такие еще есть. У него очень много прозы, в которой диалог занимает очень большое… С другой стороны, вы тоже правы, когда говорите, что в прозе его есть такое отстранение от себя, конструкция себя, взгляд на себя со стороны и так далее, но мне не кажется, что это драматургическое. Наоборот, мне кажется, что в пьесах иногда он очень следил, чтобы распределять себя между героями, чтобы ни один герой не был бы альтер эго автора и так далее, чтобы каждый герой жил полностью самостоятельной жизнью. И мне кажется, что, во всяком случае, как он полагал, что на сцене вот эта связь между автором и героем — это вещь <нрзб> недопустимая. И в той мере, в которой это было для него важно, это был один из мотивов, значит, перехода в прозу, начала работы в прозе, чтоб можно было позволить себе больше говорить о себе, от себя, доверять какие-то вещи героям, чтобы эта очень четкая грань — вот герой сюжета в своей жизни на сцене и отвечает полностью за себя, а автор ушел. Его нет. Вот он написал, но он здесь вот не присутствует. Вот возможность этот разрыв преодолеть была очень важным элементом перехода к прозе. Поэтому я бы не сказал, что это драматургическая манера. Хотя, конечно, ну, если человек всю жизнь работал в одном жанре, потом переходит к другому, разумеется, многое, накопленное опытом приемов, подходов и так далее, они сохраняются. И вот я бы как раз сегодня сказал, что от привычки писать коротко и стремиться писать коротко, и все время вычеркивать, и чувства «а вот не будет ли скучно» и так далее, он не мог освободиться. Хотя вот он говорил, что не хочет на пятьдесят седьмой странице заканчивать, но все время ему казалось, что надо лаконичней, короче, меньше и так далее. Это, конечно, что, так сказать, текст должен быть экономным, герои должны говорить отчетливо. Причем, что очень важно, что сценическая речь, отец это говорил, она не может прямо быть ориентирована на речь человека в жизни. Мы говорим нескладно, мекаем, векаем и так далее, повторяемся, сбиваемся, запутываемся в речи. Зритель в театре не может этого вынести. Речь сценическая должна быть отобранной, четкой, чуть более афористической, чем люди могут себе позволить говорить в жизни. Она не должна имитировать бытовую речь. И чуть-чуть иногда, и я об этом говорил, что мне казалось, что в прозе его герои по-прежнему говорят слишком хорошо и красиво, что в прозе можно позволить более такую небрежную и такую имитацию речи, что у него чуть-чуть слишком отобранная такая вот афористическая манера. То, что вот, учат, необходимо в драматургии, в прозе, может быть, немножко слишком, мне казалось. Может быть, я не прав. Но я помню, что я об этом говорил — очень уж, так сказать… Но он следил за репликами, за прямой речью, за диалогами, за всем прочим.
Д. Л.: «Все можно, в конце концов, превозмочь, но отчего-то не унимаются противоречащие друг другу несочетаемые потребности.
С одной стороны, такая мучительная и властная необходимость записывать, пробовать на ощупь, на вкус всегда ускользающее слово и, наконец, его обнаружить и намертво прибить к листу еще не оскверненной бумаги.
И вместе с этим такое же ясное желание стать неразличимым, невидимым для любопытных глаз, смешаться с прахом, с угрюмой ямой, готовой принять меня в свое чрево.
Все то, что некогда было мной в другой, давно исчерпанной, жизни, все, наконец, нашло друг друга, срослось, сомкнулось в единую цепь.
Теперь бы и мне найти, наконец, оставленный мне кусок пространства и спрятать в каком-нибудь уголке свою неисцелимую боль. Уйти. Убежать от всех доброхотов, готовых подставить плечо.
Спасибо вам, но только я сам могу помочь себе в этой гонке.
Осталось только найти свое слово, разглядеть его в груде изжеванных побрякушек, давно утративших вкус и цвет.
В тот миг, когда я его обнаружу, вернутся и равновесие духа, и спасительная возможность поставить вожделенную точку».
Леонид Зорин, из книги «Десятый десяток».
Я хотел бы задать последний вопрос, пожалуй. Собственно, в этой книге вы появляетесь практически в финале, когда комментируете ту часть книги, которая называется «Вдогонку за последней строкой». Я, кстати говоря, должен обязательно сказать, что предисловие к этой книге написала прекрасная Майя Кучерская, и она там очень точно обозначила такое понятие, как «черно-белая проза». И обложка этой книги, собственно, черно-белая, такая тоже очень символичная. И этот фрагмент, заключительный фрагмент этой книги, — такое действительно подведение итогов. Исповедальность в этом есть абсолютная и в том числе какое-то поучение людям, которые пишут, которые сами проводят бесконечные часы за письменным столом. Я хочу спросить у вас, почему вам было важно сказать свое какое-то слово, впечатление перед этой частью книги и каким вам видится вот этот финал, этот исповедальный финал?
А. З.: Вы знаете, ну, наверное, очень хорошо, что вы вспомнили предисловие Майи Кучерской. Я бы и обязательно вспомнил бы в разговоре о книге журнал «Знамя», его главного редактора Сергея Ивановича Чупринина, неизменного редактора папиного по журналу Елену Сергеевну Холмогорову, редактировавшую всю его прозу. Я думаю, что в значительной степени благодаря тому, что журнал «Знамя» публиковал вот все его вещи последних лет, собственно, он и состоит из вещей, напечатанных в «Знамени» полностью. Это стало его родным домом, этот журнал, и это помогало отцу продолжать работать все последние годы и, может быть, и долголетию его способствовало в этом смысле. Так что об этом надо говорить. Что же касается последней вещи, то тут эти обстоятельства в значительной степени и создали… Не то что бы я так рвался лично появиться на страницах, но она была, собственно говоря, не закончена. Я говорю, отец работал до последнего дня, и он вообще, и эта рукопись его показывает, он исключительно тщательно всегда редактировал то, что он писал. Обычно время отделки, шлифовки, редактирования и сокращения, о котором я говорил, занимало приблизительно в два, в два с половиной раза больше, чем время написания. Примерно можно считать, что если, там, текст написан, скажем, за два месяца, то четыре-пять месяцев уйдет на его доводку. Это такое было нормальное соотношение. Но с последней его повестью это не вышло. Она не была, не проходила доработки. То есть до них. Он ее успел закончить, но не успел уже взяться за ее доделку и доводку. И последние недели жизни он уже не мог вставать к столу. Он работал лежа и записывал на маленьких клочках бумаги свои мысли, и когда он ушел, то я столкнулся с этим… Я и его супруга, Татьяна Геннадиевна, мы столкнулись с огромным количеством, сотнями, записей, с которыми надо что-то делать. Заголовок подобран. Он принадлежал, «Вдогонку за последней строкой», он принадлежал отцу. Это его заголовок. Так же, как, наверно, правильно сказать, и заголовок «Десятый десяток», книжки, принадлежит самому отцу. Он хотел последнюю свою книгу издать под таким заголовком. Это его. Уже очень следил за названиями. Когда я что-нибудь писал, он меня спрашивал: «А как это назвать? Как ты это назовешь? Как это будет называться?» Следил, выражал недовольство, корректировал названия мои. Кое-какие из моих статей — просто его названия. Он очень был к этому внимателен, к этой части, значит, произведения. Так что заголовок его. Но все равно надо было еще что-то делать, прежде всего, необходим был отбор. Потому что огромное количество этих записей почти буквально повторяли друг друга. Он не мог уже дорабатывать, но он возвращался к той же самой записи. Только был другой ее вариант, третий вариант, четвертый. Они немножко… Что мы отбираем? В каком виде мы это печатаем? Ярко выраженной авторской воли не было. И плюс к этому это надо было как-то построить. В этом не было никакого порядка. <нрзб> Как ты это располагаешь? Ведь записи в каком-то порядке. И эту работу мне надо было проделать. И я ее сделал, ну, как умел. И тем более я знал, в какие недели его жизни все это написано, но датировать, что́ в каком порядке, было совершенно невозможно — что раньше, что позже и так далее. Это невозможно было сделать. Да это и не имело особенного значения. И мне, когда я сделал эту работу, мне показалось очень важным, чтобы у читателя было представление о том, что́ он читает. Вот что́, как и в каком виде написана эта вещь, что́ она из себя представляет, в какой мере она отражает авторскую волю, что́ в конечном счете принадлежит, собственно, Леониду Зорину, а что́ принадлежит уже мне, как публикатору этой вещи. Поэтому вот в этом качестве я, значит, появился. Я видел, я был свидетелем, я был рядом с отцом, по крайней мере. Я был свидетелем того, как это писалось. И я хотел об этом рассказать, чтоб было понятно, что́ это за вещь, и для меня, кроме всего прочего, было очень важно кончить последнюю книгу, последнюю вещь и так далее вот этой вот карточкой, записью его, где было все хорошо. Это вот такой очень важный финал. Она действительно была написана в самые, буквально в самые последние дни. Была ли она физически последней, я сказать не могу. Это сказать невозможно. Но, во всяком случае, я считал необходимым это смонтировать, потому что это очень отражало и его внутреннее самоощущение, и то, что он мне всегда повторял и писал. Вот он говорил, что в жизни был очень счастлив. Он на этом настаивал. Он это вспоминал, говорил. Она была трудной. Были тяжелые болезни. Были потери. Были цензурные драмы. Многие его лучшие вещи не доходили. Но он настаивал на том, он знал и ощущал, что он прожил очень счастливую жизнь. И это я тоже хотел… В этой, так сказать, предсмертной речи мне казалось очень важным это донести.
Д. Л.: Спасибо большое, Андрей Леонидович. Мне кажется, это был очень важный разговор. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о книге Леонида Зорина «Десятый десяток» и запись этого подкаста будет опубликована на платформе «НЛО Медиа» и на всех стриминговых платформах. Еще раз благодарим нашего гостя за участие, и до новых встреч.