Линор Горалик*: холод вымысла и эмпатия документа
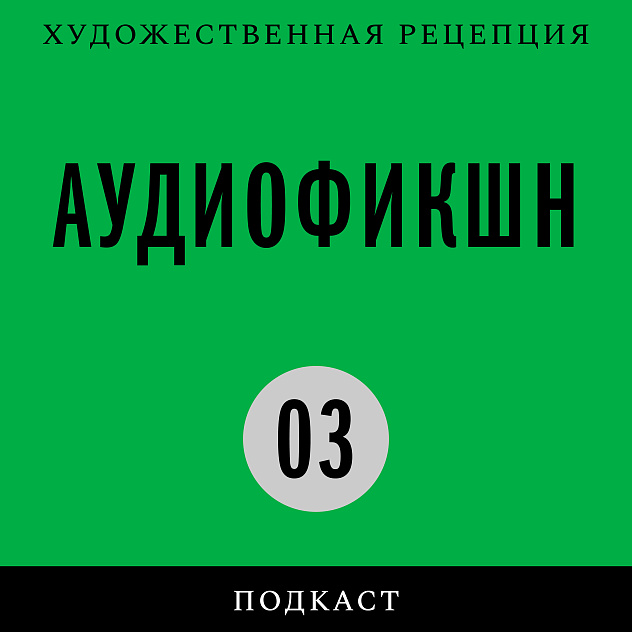
Подкаст ведут: Денис Ларионов, Денис Маслаков.
В гостях: Линор Горалик*.
* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов


- 00:03:20 Можно ли взрастить эмпатию в себе и других, и есть ли в этом смысл?
- 00:06:15 Где проходит граница между документальной и недокументальной литературой, в чем их принципиальное различие?
- 00:16:13 Как вы работаете с романным письмом, в чем заключается ваш подход к нему?
- 00:24:43 Почему вам так важно включать в сюжеты аллегорические образы животных?
→ Читать полностью
Денис Ларионов: Здравствуйте! Это подкаст «Аудиофикшн», подкаст издательства «НЛО», в котором мы говорим о современных художественных новинках, культовых книгах и незаслуженно забытых авторах, которых мы возвращаем читателю. Ведущие подкаста — поэт, редактор серии «Художественная словесность» «НЛО» Денис Ларионов.
Денис Маслаков: И Денис Маслаков, журналист и исследователь.
Д. Л.: В предыдущих выпусках мы говорили о наших книгах с журналистами и исследователями литературы. Сегодня, наконец, поговорим с автором. У нас в гостях Линор Горалик, и этим, пожалуй, все сказано. Линор, здравствуйте!
Линор Горалик: Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение!
Д. М.: Нужно сказать, что Линор представляет собой уникальный пример автора, если позволите так сказать, многостаночника, который пишет и стихи, и прозу, и является художником, и эссеистом, и редактором, и исследовательницей, которая пишет о моде и не только о моде, об очень многих феноменах. И сегодняшний наш подкаст, сегодняшняя наша встреча скорее о прозе Линор и, собственно говоря, о романах, которые выходили и, надеемся, будут выходить в издательстве «Новое литературное обозрение».
Л. Г.: Да, спасибо большое, и, если я правильно понимаю, мы говорим сейчас о романе «Имени такого-то».
Д. М.: Да, совершенно верно. И вот, собственно, первый вопрос как раз о нем у меня. Вот ваш роман, который вышел чуть больше года назад, «Имени такого-то», который посвящен Великой Отечественной войне, одному небольшому эпизоду малоизвестному. Он стал бестселлером и во многом потому, что он срезонировал с каким-то самоощущением читателей, критиков, но, к сожалению, он как бы совпал с такой историко-политической ситуацией. Как вам кажется, почему так получилось? И было ли в прошлом году и вообще в каком-то протяженном времени до 24 февраля 2022 года какое-то предчувствие беды, которое воплощалось в литературной форме?
Л. Г.: Нет, мне совсем не хочется делать вид, что я человек, который предвидел войну. Я ничего не предвидела. Я совершенный идиот, и я из тех людей, которые очень поздно поняли, что будет происходить. У меня как раз не было никакого особенного предчувствия. Оно появилось прямо уже в последние дни перед 24 февраля. Но у меня обсессия с войной. Я постоянно о ней пишу, и это «Имени такого-то» не первая моя книжка о войне. И книжка, которая сейчас будет выходить, которая роман «Бобо», он уже об этой войне, той, которая идет сейчас, но у меня, например, есть детский цикл «Венисана», который я сейчас дописываю, он тоже о войне. И если все время бегать и кричать «пожар, пожар, пожар, пожар», то когда-нибудь ты окажешься рядом с горящим зданием. Так получилось. У меня не было никакого предвидения, и я совершенно не хочу притворяться.
Д. Л.: Вы в одном из интервью, правда, о другой книге, «Все, способные дышать дыхание», сказали, что главный герой этой книги — это эмпатия. И вообще применимо к вашим текстам это слово, мне кажется, входит, пожалуй, в ту тройку слов, которыми можно было бы описать вообще все ваше творчество. И сегодня это слово «эмпатия» применимо совершенно в другом ключе, когда стало понятно, что оглушительное, просто оглушительное количество людей ей не обладает, оставаясь равнодушным к катастрофе. На ваш взгляд, можно ли взрастить эмпатию в себе и в других? И есть ли в этом смысл?
Л. Г.: Знаете, мне хочется сказать, что я понимаю, о каком впечатлении вы говорите. Вот это впечатление, что люди не обладают эмпатией, люди равнодушны к катастрофе, но мне хочется сказать, что я хочу надеяться, что это впечатление ложное. Я хочу надеяться, что люди, которые могут показаться равнодушными к катастрофе, что с ними творится что-то совсем другое, что это не равнодушие, что это может быть шок, может быть такая степень отрицания, что люди застывают в своей картине мира и просто не могут посмотреть в сторону происходящего ужаса, что это не отсутствие эмпатии, что они могут ее проявлять в отношении своих близких, что они могут ее проявлять в отношении кого-то другого, но не могут заставить себя посмотреть в лицо того кошмара, который сейчас происходит, который происходит в Украине. Что это все-таки мы столкнулись не с таким чудовищным процентом психопатов, социопатов в населении, а с чем-то другим. И я не знаю… Я не специалист по психопатии, социопатии. Это они должны отвечать на вопрос. К ним надо обращаться за ответом на вопрос, можно ли пробудить в себе эмпатию. Но я думаю, что мы можем попытаться думать о вопросе, можно ли, имея эмпатию к кому-то, можно ли пробудить в себе эмпатию к тому, к кому ты ее не испытываешь. То есть можно ли, будучи человеком способным к сопереживанию в принципе, разбудить его в себе к людям, на которых оно у тебя не распространяется? Я думаю, что можно. Я думаю, что это очень тяжело и больно, но это то самое «полюби врага», полюби ближнего, к которому ты равнодушен, полюби чужого тебе человека. Я думаю, что это очень тяжело и больно, но мы знаем, что история дает нам множество примеров того, что это посильно. Я думаю, что это посильно.
Д. М.: Ну вот в продолжение… Спасибо вам большое за такой ответ. И в продолжение, собственно, вот этой темы. В ваших текстах, и в более ранних, я сейчас говорю именно о прозаических текстах, есть вот это стремление… Не хочется говорить слово «вжиться». Как-то даже вплестись в каком-то смысле. Вот прям вот в буквальном смысле. Понять, как устроена материя жизни людей, которые как бы и с вами, и с нами как-то не очень связаны. Я вот, например, вспоминаю небольшую повесть «Валерий». Или, например, то же самое можно сказать и про роман «Все, способные дышать дыхание», и про роман «Имени такого-то». И они все… Ну вот если даже взять эти три текста, они устроены принципиально по-разному. В одном случае это как бы документальная проза или околодокументальная проза. В другом случае это вообще как бы аллегория, то есть вот просто никоим образом с документом ее смонтировать не получается. В третьем случае это такое… Вот как раз это некий такой опыт эмпатии письма. И вот как бы возникает, собственно, вопрос, где для вас, с одной стороны, граница этого документа и недокумента и насколько, как вам кажется, в такой более общей перспективе, собственно, в чем какое-то принципиальное различие, условно, документальной литературы и литературы, никоим образом с документом не связанной?
Л. Г.: Я хочу сказать сначала, если можно, про первую часть вот вашей реплики, про вживание. Я чувствую себя человеком, ничем не отличающимся ни от кого, в том смысле, что у меня вечное чувство, что я могу оказаться на месте кого угодно. Я могу оказаться на месте больного, бездомного, негодяя, преступника. У меня все время чувство, что жизнь может повернуться любой стороной, я могу оказаться в любой роли, в любом социальном положении, что я ни от чего не защищена и не защищена не просто потому, что жизнь непредсказуема, а еще и потому, что… Помните, да, как говорил Браун у Честертона? «Все эти преступления совершил я». Во мне всё есть, в том числе любая дрянь. Я пытаюсь бороться с ней, но все может вылезти наружу. Все может вылезти наружу. И я поэтому пытаюсь понять, как может быть устроена любая жизнь, всякая жизнь. Мне вот и по поводу «Имени такого-то», и по поводу «Бобо» кто-то сказал из читавших: «Меня бесит, что всех ваших негодяев приходится любить». А у меня не получается самой написать какого-нибудь отпетого негодяя, потому что я не верю в отпетых негодяев, ну, за исключением людей совсем нездоровых, лишенных эмпатии как таковой, потому что мозг их так устроен. И в этом смысле у меня не получается та документальная проза, переходя к ответу на ваш вопрос, в которой, конечно, например, должны существовать абсолютные негодяи, абсолютные отрицательные персонажи, потому что история их знает, например. В этом смысле я никогда с документальной прозой не справлюсь. У меня не получатся абсолютные злодеи, которых надо выводить на сцену. У меня не получатся абсолютные подонки, абсолютные предатели, как не получится ни один персонаж, в которого автор не верит. Мы говорим об этой теме в тот момент, когда огромная часть нашего общества прямо сейчас обсуждает довольно уродливыми способами иногда, можно ли сочувствовать солдатам на передовой. Я говорю об истории с «Дождем». И это очень страшное обсуждение, для меня страшное, по многим причинам, пугающее меня. Очень сильно пугающее. И пугающее меня еще и тем, что люди не различают сочувствие и действие. Сочувствовать, на мой взгляд, можно кому угодно, любому страдающему существу на планете, любой страдающей божьей твари. Другое дело, как мы действуем, исходя из этого сочувствия. И действовать, исходя из сочувствия, можно очень по-разному. Можно вообще бездействовать. Можно полностью сживаться. На спектре между этими двумя полюсами можно тысячами способов функционировать. Но сочувствовать можно, безусловно, кому угодно, в том числе российскому солдату на передовой, в том числе абсолютному негодяю, в том числе социопату. Другое дело, что́ ты со своим сочувствием делаешь, как ты со своим сочувствием поступаешь потом. И в этом смысле, мне кажется, что документальная проза, по-настоящему документальная проза, должна все-таки уметь быть иногда настолько безжалостной к людям, насколько я не умею. Ровно поэтому даже основанный на документальных событиях «Имени такого-то» и даже «Бобо», который очень плотно завязан на сегодняшнем… Он же написан прямо про сегодняшние события. Даже «Бобо» все равно фантастическая литература, потому что я так не умею.
Д. Л.: «Женское отделение отвечало за светомаскировку. Черный октябрь наваливался на окна темнотой уже в три часа дня, приходила со своей маленькой командой вдвое исхудавшая за эти месяцы огромная сестра Витвитинова, и большие окна кабинета закрывались выданными завхозом кусками театрального бархата, о происхождении которого Райсс предпочитала ничего не знать. Витвитинова была сокровищем, и каждый раз главврач благодарила в сердце своем силы небесные за то, что эта нежная и обидчивая великанша так и не пошла учиться инсулиновой терапии, — а то быть бы сейчас Витвитиновой на фронте. Но голос у Витвитиновой был ужасного тембра, проникал в кости, и ежедневно пытаться дотерпеть до момента, когда она и ее подопечные уйдут восвояси, было совершенно невыносимо».
Линор Горалик, «Имени такого-то».
Я бы хотел вернуться к роману «Имени такого-то». И во многих рецензиях на этот роман сказано, что в нем есть фантастическое сочетание хаоса, неразберихи и при этом какой-то холодной отстраненности и отсутствия шока. И мне кажется, что сегодняшнее общество так же комбинирует это только на первый взгляд сочетание несочетаемого. И на ум также мне пришло культовое «Мама, мы все тяжело больны». Разделяете ли вы что-то похожее и чувствуете ли вы в связи с этим в каком-то смысле неожиданный, но пророческий эффект этого романа?
Л. Г.: Абсолютно не чувствую пророческого совсем ничего, но по поводу «Мама, мы все тяжело больны» чувствую много. Я даже, когда началась милитаризация страшная российского общества, еще до 2014 года, это же началось до 2014 года, милитаристская риторика, победобесие, вот это вот все, у меня возникла метафора, которая очень помогла лично мне понимать, что происходит. И сейчас она меня спасает просто. Я поняла, что война — это чума. И, скорее всего, за редчайшими исключениями, переболеют абсолютно все. Я имею в виду, психологически. Переболеют абсолютно все. И что у войны есть штаммы. Есть консервативный штамм, есть либеральный штамм, есть правый и левый штамм, и кто-то переболеет тяжело, кто-то переболеет легче, кто-то переболеет смертельно, кто-то переболеет и относительно выздоровеет, но это скажется на нем на всю жизнь. Но, за исключениями редчайшими, каких-то светлейших, чистейших людей, здоровеньких не останется. Это чума, и она переносится. Ей заражаются друг от друга. Мне кажется, что мы все болеем и болеют — те, кто не болеет консервативным штаммом, болеет либеральным штаммом. Я далеко не уверена, что этот штамм намного легче переносится. Мне кажется, что он тоже очень тяжелый. Но точно так же те, кто болеет либеральным штаммом, точно так же болеет чудовищным неприятием другого, чудовищным отстранением, какой-то совершенно страшной брезгливостью. Жестокостью болеют очень сильной. Чувством собственной правоты очень сильным. Много чем, и это тоже довольно пугающие симптомы. Ты можешь полностью разделять взгляды... Я. Я буду говорить «я». Я могу полностью разделять взгляды этих людей, но от того, например, как эти взгляды высказываются, мне бывает очень страшно. Я тоже вижу иногда там лицо болезни. Я в себе вижу эту болезнь — абсолютно явно. Я болею совершенно явно. Иными словами, страшненько, конечно.
Д. М.: Как говорят, в Живом Журнале, кажется, это сложилось, плюс тысяча. Я абсолютно согласен с этим.
Д. Л.: Да. Предлагаю все-таки немножко переключить настроение и поговорить немножко про технологический процесс. Мне кажется, что с кем еще говорить о нем… В общем, обязательно нужно поговорить о нем с вами. Поскольку у вас это абсолютно открытая какая-то история, и этим, мне кажется, вы отличаетесь от подавляющего большинства людей пишущих. Допустим, я только сегодня открыл там у вас в Телеграм-канале, получается, полную хронологию, как вы описывали создание «Бобо». Вот получается, первый пост, насколько я помню, был в июне, кажется, месяце. И вот, получается, когда? Вот совсем недавно был последний пост. То есть получается, что вы вместе с «Бобо», собственно, и прошли весь этот путь, и в том числе мне кажется, что, если мы говорим о романах, о романе «Имени такого-то» и о романе «Бобо», который вот выйдет в следующем году, дай Бог, мне кажется, что вы и жанровые рамки романа в российской современной литературе в XXI веке тоже значимо раскрыли, и поэтому хотелось бы спросить у вас именно про машину романного письма. Каков ваш подход, подступ именно к романной форме?
Л. Г.: Спасибо вам за добрые слова. Он очень… Технически он очень конкретный. Я очень много времени отдаю планированию. Я строю такие таблицы большие в Экселе, где я реально прописываю всех персонажей, все их линии. Я прописываю идеи и как они развиваются внутри романа. Я прописываю хронологию. Из всего этого получаются такие матрицы. Потом я эти матрицы делю на главы. Потом я эти главы схлопываю вместе, сокращаю. Короче говоря, есть механика прям, довольно большая. А все, что происходит внутри, — это абсолютно потом. Вот когда планирование закончилось, это абсолютно эмоциональная работа, обычно эмоционально очень тяжелая для меня. Я как бы действую по жестко выверенному плану, но внутри каждой главы у меня плана абсолютно нет. Там происходят какие-то смешные вещи. Например, я же совершенно не помню текст. Я понятия не имею… Вот последний роман, который я написала, — это «Бобо». Я понятия не имею, что́ там написано. Мы сейчас с потрясающим редактором Настиком Грызуновой работаем над редактурой, и у нас уже много лет работы вместе, и у нас выработана механика, по которой я не должна читать текст заново, потому что я не могу перечитывать собственные тексты. Значит, она ставит комментарии в определенных местах, где я должна соотнестись с текстом. Я строго в местах этих комментариев прочитываю одну-две фразы и правлю их. Убей меня Бог, если я знаю, о чем там идет речь. Я понятия не имею, кто все эти люди, что там происходит. Я не помню ничего совершенно, и время от времени мне приходится искать что-то по тексту романа для того, чтобы вспомнить, к чему, собственно, что́ относится. Я помню какие-то, ну, основные линии и нарративы, но я не помню никаких подробностей, потому что это сто́ит мне таких эмоций, написание, что я вытесняю все, конечно, куда подальше и жду момента, когда закончится редактура, чтобы вытеснить это все окончательно, конечно. То есть я знаю… И, когда роман идет обычно очень тяжело, я знаю, что моя задача — двигаться строго по плану, никогда не смотря назад. Никогда не смотреть на текст назад. Не пытаться вспомнить, что было написано раньше. Не пытаться вспомнить, что герой делал раньше. Вот есть план каждой главы. Он довольно подробный. Вот надо двигаться по плану — и тогда можно не пытаться соотнестись с предыдущим текстом и никогда его не перечитывать. Так я и пишу.
Д. Л.: Единственное, что я хотел еще один вопрос, подвопрос, задать. Когда вы садились писать свой первый роман, было ли у вас какое-то придыхание именно перед романной формой? Потому что, ну, я знаю, что наш подкаст точно будут слушать молодые писатели, в том числе писатели-выпускники, которые… Многие из них до сих пор не могут подступиться к романной форме. Вот мне кажется, Линор — это ярчайший пример того, что можно писать роман и одновременно при этом жить, продолжать жить, как ни странно. И помните ваш первый опыт?
Л. Г.: Он был обалденный совершенно, потому что первый роман мы писали с Сергеем Кузнецовым вдвоем. Это был роман «Нет» — это про будущее порноиндустрии. Это была фантастика. И роман «Нет» — мы собирались быстро написать коммерческую книгу. Надо ли сказать в результате, что это получилась абсолютно некоммерческая, сложная, на мой взгляд, фантастика, которая стоила нам большой крови. Ну то есть прям сложная была работа. Но нам было очень весело и интересно, поэтому все было очень хорошо. Мы совершенно не боялись, потому что мы думали, что это будет хренак-хренак в продакшн. Если б мы знали, чем это закончится, мы бы очень, наверное, нервничали, что это будет много тяжелой работы. Поэтому вы тоже просто все думайте, кто боится подступиться к роману, что вы сейчас быстренько что-нибудь наговнякаете, а потом уже как-то будет ужасно и тяжело, но это будет — уже некуда деться будет. Но я шучу, конечно.
Д. М.: Главное — вступить в игру.
Л. Г.: Да. Главное — всё делать по кусочкам. Не говорить себе: «Я сейчас сяду писать роман», — а сказать себе: «Сейчас я просто запишу основную идею». Потом говорить себе: «Сейчас я просто разделю ее на три главных части. Потом я эти три части просто разделю на небольшие планы». И никогда не признаваться себе, что ты пишешь романы. И все. Все будет нормально.
Д. Л.: Я очень надеюсь, что эти слова возымеют действие и мы скоро…
Л. Г.: Получим много хороших романов. Да? Это было бы круто.
Д. М.: А вот интересно, этот же принцип, так как вы пишете и статьи, и у вас есть книжка про Барби, и, в общем, вы работаете в разных жанрах, работает ли этот принцип вот, например, с эссеистическими или публицистическими, или академическими текстами?
Л. Г.: С академическими — обязательно. Я пишу план, когда пишу статьи о теории моды, например. Я обязательно работаю с планом жестким и всем остальным. Там иначе нельзя. Это… Не знаю, как объяснить. Там иначе нельзя. А с эссе — нет, иногда можно без плана, но эссе ближе к поэзии, мне кажется, чем к академическому тексту или прозе. Там уж какой план… Не знаю. Интересная мысль. Спасибо, Денис, буду думать, почему это так. Не понимаю.
Д. М.: Я тоже записал некоторое количество ваших идей. Но для меня это, конечно, трудный принцип. Но, возможно, стоит как бы начать… А потом…
Л. Г.: А потом посмотрим. Как Ленин с революцией. Начнем, а там посмотрим.
Д. М.: Да-да-да. Главное — ввязаться, а там посмотрим.
Д. Л.: «В последний момент сообразили, что идти с авоськами и пластиковыми сумками-сетками на рынок нельзя, нехорошо, чтобы сейчас смотрели, и Сидоров предложил взять две наволочки. Малышка билась за наволочки как зверь, но в конце концов выдала две старых, и сейчас они были забиты почти под завязку, и Малышка теперь сидела на них, для верности кое-как прикрывая их полами своего жиденького пальто. Цепочка Витвитиновой в руках Сидорова превратилась в две буханки хлеба, кулон с топазами — в три небольших бутылки какого-то масла, часы — в фарфоровый сервиз, а потом хлеб — в картошку, масло — в еще картошку, вся эта картошка — снова в хлеб, но уже в девять буханок, сервиз — в котиковую шапку, шапка — в отличный, почти не ношеный бушлат, и так далее, и так далее...»
Линор Горалик, «Имени такого-то».
Д. М.: Вот вопрос совершенно в другую сторону, который вот меня лично просто интересует. Автор одновременно очень-очень современный, потому что темы, которые вы поднимаете и обсуждаете во всех жанрах, в которых вы работаете, они как бы, так сказать, на острие атаки. И они такие обжигающе злободневные. Но в то же время мне кажется, что в вас есть как бы вот такой некоторый автор-архаист, который как бы в хорошем смысле слова, чье творчество можно посмотреть как бы со стороны как бы вообще, ну, там, истории литературы и так далее. Вот, в частности, я это сразу не замечал, но как-то я сопоставил, что огромное количество ваших текстов, и два романа, например, и не только, и в книгах для детей, если я ничего не путаю, и вообще, и в стихотворных текстах это возникает, в общем, некий аллегорический образ животных. Это довольно такая благодатная тема. И мне бы хотелось как бы спросить, собственно говоря, почему эта тема для вас важна как для автора и для человека, я не знаю. Ну то есть как это… В какой парадигме вы видите развитие этого мотива, этих образов? Либо это метафора, либо это нечто совсем другое?
Л. Г.: Слушайте, спасибо вам за добрые слова. Я бы хотела что-нибудь умное тут сказать, но мне не хочется изображать того, кем я не являюсь. Я не знаю. Как живой человек, как частное лицо я, безусловно, знаю. Я просто их очень люблю. Я ужасно их люблю, и при этом я не зоозащитник, я не умею выступать за их права. Я просто люблю зверюшек. У меня всегда, всю мою взрослую жизнь, они были, и мне от них хорошо — от любых. Я млею от вида коровы. Ну, то есть я не могу объяснить, как это устроено. И пишу я о них, потому что, когда я пишу про кота или собаку, мне лучше, чем когда я пишу про человека. Мне просто кажется, что они какие-то потрясающие. Они лучше нас, наверное, во многом и при этом живые. Мне кажется, что весь миф о сотворении мира человек себе в угоду рассказывает неправильно, что, когда Господь семь дней создавал мир, он, конечно, сначала создал нас, увидел, как все получилось плохо, и создал животных — и все получилось хорошо. Ну то есть что это какая-то… Что у нас антропоцентрический взгляд. На самом деле животные — это удавшийся вариант божьих созданий. Они совершенны. Я могу долго об этом, как вы видите, говорить. Я их очень люблю. Но у меня нет никакой суперидеи, сверхидеи по поводу того, почему надо писать про животных, рисовать про животных. Нет, они мне просто очень-очень нравятся. И мне просто приятно о них думать и писать о них тоже приятно, как о более совершенных существах. Что не мешает мне не быть зоозащитником и вообще как-то просто жить с собакой, с идеальной, безусловно, собакой, потому что они все идеальны.
Д. М.: Спасибо. Да, я как бы тоже подписываюсь под этим спичем. Животные мне кажутся гораздо более какими-то интересными, так сказать, произведениями, чем люди.
Д. Л.: Я хочу задать последний вопрос. В любом интервью с человеком творческим всегда есть этот пошлый вопрос. Ваши творческие планы. Ну, ваши творческие планы — уже знаем, что в следующем году очень надеемся на то, что выйдет роман о Бобо. Я хочу спросить вот что. Чем в процессе создания этого романа Бобо удивил лично вас?
Л. Г.: Во-первых, было технически ужасно тяжело, потому что я люблю писать по плану, как я уже говорила. План — это очень важно. Он меня успокаивает. Мне так эмоционально легче. Есть план, и я как-то за него держусь. Но здесь же я перекраивала план все время, потому что происходили все новые и новые ужасные события, связанные с Украиной и Россией, и я вставляла их в роман. Я переделывала роман, чтобы вошли референдумы, чтобы вошла мобилизация, чтобы вошла аннексия, чтобы вошли какие-то, значит, конкретные новости, и это все был какой-то пипец, и было это тяжело. Чем Бобо меня удивил? Вы знаете, я лучше скажу, чем он меня не удивил вообще. Ему шестнадцать лет. Он подросток, этот слон. И он правда оказался ровно таким, какими оказываются те прекрасные, умные, глубокие подростки, с которыми я много занимаюсь, общаюсь, работаю. Таким уже человеком взрослым и человеком, в котором есть всё, кроме опыта. Подросток — это взрослый человек без опыта. И он оказался ровно таким существом, и я все время боялась, что у меня не получится показать его таким, но он… Я вот ужасно не люблю это вот «персонаж оказался больше автора», но он оказался больше меня и лучше меня, и я ему за это страшно благодарна.
Д. Л.: Спасибо большое, Линор.
Л. Г.: Спасибо вам огромное за важный для меня разговор. Спасибо большое. Всего хорошего, дорогие друзья.
Д. М.: До свидания. Большое спасибо.
Д. Л.: Мы благодарим Линор за интересный разговор и напоминаем, что издательство «НЛО» запустило проект «НЛО Медиа», который вы можете найти на сайте издательства nlobooks.ru. Там вы не только сможете послушать подкаст, но и прочитать расшифровку и дополнительные материалы, а также найти книги «НЛО», о которых шла речь в подкасте. До встречи в новом выпуске.
Библиография по теме выпуска
- Линор Горалик. Валерий. Повесть. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- Линор Горалик. Все, способные дышать дыхание: [18+]. М.: АСТ, 2019.

