Зиновий Зиник: по обе стороны стены
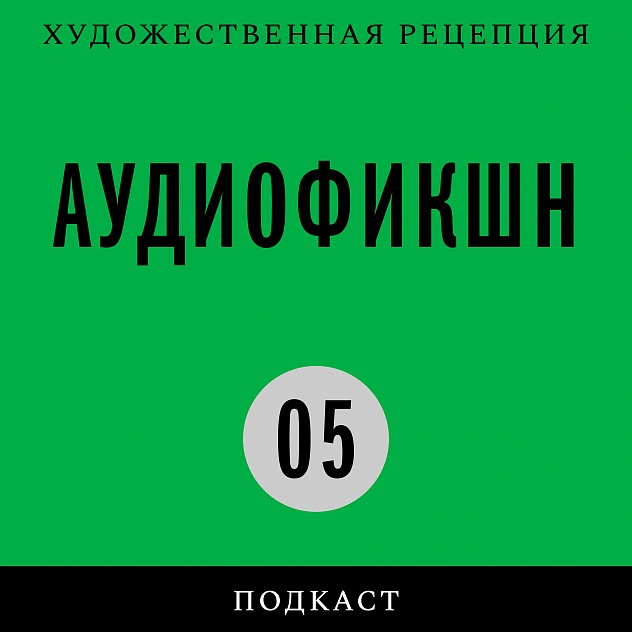
Подкаст ведут: Денис Ларионов, Денис Маслаков.
В гостях: Зиновий Зиник.


→ Читать полностью
Денис Ларионов: Здравствуйте! Это подкаст «Аудиофикшн», подкаст издательства «НЛО», в котором мы говорим о современных художественных новинках, культовых книгах и незаслуженно забытых авторах, которых мы возвращаем читателю. Ведущие подкаста — поэт, редактор серии «Художественная словесность» «НЛО» Денис Ларионов.
Денис Маслаков: И Денис Маслаков, журналист и исследователь.
Д. Л.: И я попрошу Дениса представить нашего сегодняшнего гостя.
Д. М.: Да, мы очень рады, что сегодня к нам пришел в наш подкаст Зиновий Зиник, наш постоянный автор издательства «НЛО», у которого недавно вышла книга, этим летом, под названием «Нет причины для тревоги», в которую вошли тексты, начиная с 1980-х годов и до 2020-х годов. И, собственно, такой большой промежуток времени, хронологический интервал позволяет нам поговорить обо всем творчестве Зиновия, о его жизни и о том, как письмо и биография в его случае переплетаются между собой.
Д. Л.: Итак, начать хотелось бы вот с чего. Несмотря на то, что вашими героями часто становятся эмигранты, перемещенные лица и так далее, вас нельзя назвать, как мы однажды назвали это иронично, автором, «профессионально пишущим на эмигрантские темы», в кавычках. Как вы однажды точно обозначили, эмиграция для вас — это литературный прием. Но что он открывает и что при этом обретают ваши герои?
Зиновий Зиник: Это название, «Эмиграция как литературный прием», — это название довольно старого эссе, где, собственно говоря, смысл которого — продемонстрировать, что никакой эмиграции по сути своей нету, в том смысле, что эмиграция, если ее понимать как некое изгнание, — это довольно старая история. Может быть, можно говорить об эмиграции Адама и Евы из рая. И я не знаю, может быть, дальше пойти можно — поговорить о рождении как некоторой эмиграции из теплой домашней утробы в этот страшный, неприглядный и агрессивно настроенный по отношению к нам мир. Я просто хочу сказать, что любой разрыв с прошлым воспринимается как некая драма и эта драма, этот раздел, отделяющий тебя от прошлого, — это некая стена, в моем случае это был железный занавес, который к тому времени, в 1975 году я уехал, был уже в дырах весь. Но, поскольку тогда, когда я уезжал, вот эта эпоха третьей волны эмиграции, мы уезжали официально, формально говоря, воссоединяясь с какими-то дальними, очень часто фиктивными, родственниками, хотя это был официальный отъезд, у нас отбирался паспорт в обмен на эту визу в одну сторону, и при мне мой паспорт был разорван на куски и брошен в мусорную корзину. Так что я приехал, попал в Вену без гражданства, таким образом оказавшись на свободе, но за спиной у меня была та же стена, тот же железный занавес, который отделял меня в Москве в моей родной от остального, западного мира. И вот эта вот отделенность, она создает такую драматическую цельность твоего прошлого. И поэтому эта цельность, она может рассматриваться как готовый, сделанный роман, то, что называется. И поэтому я писал об эмиграции как литературном приеме. А дальше начались просто довольно сложные отношения с прошлым, как у всех у нас. Тем более в наше время, в эпоху массовых миграций от Африки до России, говорить о том, что это эмигрантское отношение к действительности является творческим методом, довольно сложно. Но факт состоит в том, что, действительно, если ты попадаешь в какую-то страну неясную, непонятную, неведомую тебе до этого, ты воспринимаешь свое прошлое как некую цельность. Но, поскольку я стал встречаться с людьми, у которых были свои разрывы с прошлым, я стал обращать внимание на другие просто ситуации такого рода разрывов драматических, переходов в другую реальность. В Вене были разные возможности. Можно было почти автоматически попасть в Соединенные Штаты. Если так серьезно поработать локтями, можно было добиться места в Европе, но я решил, что, поскольку меня пригласили в Израиль, я и поеду в Иерусалим, где у меня было два близких друга. Леонид Иоффе — ближайший друг, и Слава Цукерман, с которым мы были соседи даже по Москве, тоже очень хороший друг, это кинорежиссер, автор знаменитого фильма «Последствия», «Liquid Sky», «Жидкое небо». И я оказался в Иерусалиме, естественно, о котором я только мог воображать, приблизительно в таких же расплывчатых контурах, как Гоголь, скажем. То есть это совершенно неведомая реальность, которая вдруг открылась и которая оказалась безумно знакомой. И, говоря о разрыве с прошлым, я тут же столкнулся с таким феноменом, что люди разделяются на тех, которые готовы принять эту новую реальность, вроде меня, я тут же стал учить иврит и выучил, до сих пор могу свободно говорить, за год я это сделал, и есть люди, которые застыли в этом собственном прошлом, на моменте их отъезда, собственно говоря, и они продолжали выяснять отношения с прошлыми друзьями, со своим прошлым именно с этого момента. Позже уже, когда я попал во Францию и, в конце концов, в 1976 году я стал постоянно жить более или менее в Англии, в Лондоне, эта вот категория, это вот разделение людей по отношению к их собственному прошлому, оно какое-то кардинальное. Есть люди, которые выясняют вот эти вот отношения с собственным прошлым, как будто они застыли в нем. И для меня первое произведение, собственно говоря, из-за которого все пошло, — это такая новелла, длинный рассказ, повесть на самом деле, «Извещение», которая, кстати, входит в изданный «НЛО» том под названием «Третий Иерусалим». Это как раз история о человеке, который застыл в этом прошлом. Невозможно передать вот это вот состояние встреч с людьми, которые застыли в собственном прошлом. Более того, я, человек, который непрерывно писал письма из Иерусалима и потом из Лондона, описывая чуть ли не каждый свой день, я очень был связан со своими друзьями, группой друзей в Москве, и поэтому, казалось бы, тоже застыл в собственном прошлом. Я стал вспоминать какие-то основные вещи, которые всю жизнь меня занимали. Одна из мифических сказок моего детства была сказка Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Это история про мальчика-подростка, который попадает к ведьме, которая покупает какие-то овощи у его матери на рынке, и эта ведьма кормит его волшебным супом, и он засыпает. Потом он просыпается. Ему снятся замечательные сны загадочные с зверьками, которые бегают по этому дому этой ведьмы. Он просыпается, идет обратно к маме на рынок, и над ним публика издевается, смеется. Мать его не узнает. Отец его выгоняет из дома, потому что этот человек издевается над памятью о пропавшем сыне. Короче говоря, выясняется, что он превратился в карлика с длинным носом, и отсутствовал он не несколько часов, не семь, скажем, часов, которые он проспал у этой колдуньи, у этой ведьмы, а семь лет, и все изменилось. Это классическая история. Есть разные варианты такого персонажа, который заснул, а потом проспал полжизни и возвращается в, казалось бы, знакомые места, и он их не узнает, и его никто не узнает. Так вот, этот миф, он очень хорошо прилагался к моему опыту встречи с персонажами, людьми, которые застыли в собственном прошлом. В Париже это были люди, которые воевали с советской властью в парижских журналах, эмигрантские издания в Америке… Они все, собственно говоря, остановились на том моменте, когда они уехали, в 1975 году. И постепенно я стал понимать, что вот эта вот зеркальность какого-то моего московского опыта с опытом, который я вдруг стал встречать, с которым я стал пересекаться вне России, — это некая драма. Это драма вполне универсальна не только для людей, которые уехали из каких-то тоталитарных режимов и не могут туда вернуться. Это драма людей… Я не знаю, какого-нибудь шотландского мальчика-подростка, который уезжает из Глазго в Лондон, и Лондон для него — это совершенно другой мир. Это отчасти другой язык, потому что шотландцы говорят на некотором… Во-первых, у них есть свой корневой такой язык, но это еще и другой язык на уровне разговорного общения. Это тоже эмиграция. Короче говоря, я стал прослеживать ситуации, которые отражают мою собственную ситуацию. И в этом смысле я ищу ситуации, в которых, как я сказал, прошлое у человека раздваивается, настоящее раздваивается. Прошлое становится недостижимым. Когда он оказывается в той или иной тюрьме, которая может быть чисто психологической, которая может быть чисто физической, он оказывается перед лицом стены и, оставив людей по другую сторону стены, ему кажется, что он освободился от вины, которую испытывали эти люди, скажем, живя в России, по отношению к советской власти или — в настоящий момент — по отношению к путинской ситуации с войной, но, оказавшись по другую сторону стены, это чувство вины и соучастия не пропадает. Оно становится другим. И вот эти вот вариации этого раздвоения, они каким-то образом стали проигрываться в моих рассказах. И тут важно отметить, что как бы с самого начала я, видимо, стремился в своей жизни найти такую ситуацию, которая не то что бы иллюстрирует, но отражает, завязывает меня в это состояние двойственности или раздвоенности, или какого-то зеркального отражения.
Я довольно… Я уже в Москве благодаря влиянию моих менторов занимался театром. В Иерусалиме я вел весь год благодаря Славе Цукерману, кинорежиссеру, стал временно режиссером студенческого театра при Иерусалиме, студии для двуязычных студентов. И мы поставили… Переработал два водевиля Козьмы Пруткова. Это было смешно. Я надеюсь, я к этому опыту не вернусь, потому что это были студенты — теоретики театра, играть они не умели. Моя задача была — так расставить стулья, чтобы они об эти стулья не покалечили себя. Но все равно это был удивительный опыт. И потом, когда уже я переехал в Лондон, я, собственно говоря, зарабатывал деньги такие на дневные насущные нужды театральными рецензиями, главным образом для Русской службы Би-би-си. И я был по три-четыре раза в театре. И вот этот вот второй момент… Я упомянул Русскую службу Би-би-си, я работал уже и по-английски на радио. Этот момент — радио. Так вот, театр — это все-таки тоже в каком-то смысле раздвоенность. Это сцена и это публика. И есть замечательный драматург Пиранделло, который увязывает то, что происходит на сцене, с тем, что происходит в зале. И радио — это тоже своего рода раздвоенность такая, которую можно назвать в каком-то смысле отражающей эмиграцию или изгнание, или экспатриацию… Я не знаю, как называть эту раздвоенность, но в тот момент, когда я был радиовещателем, я сидел в студии, мое тело находилось в Лондоне, в то время как голос мой путешествовал по каким-то неведомым маршрутам и доходил не только до моих друзей в Москве, но и до Тихого океана. И вот голос был где-то там, моя душа, а мое тело было, значит, здесь, в Лондоне. И третий, наверное, момент, он состоял в том, что мы как бы ищем то, что мы потеряли, в других ипостасях, в других формациях. И по разным причинам — я потом как-нибудь чуть позже в нашем разговоре могу вернуться к этому — я искал какой-то другой Лондон уже в Лондоне, и я его нашел в Сохо. В этом Сохо я восстановил какие-то отношения… Я не хочу употреблять слово «антиистеблишмент», но речь идет о мире, который отделял себя от всего остального Лондона. Это Лондон, который не знают даже лондонцы, не говоря уже о мигрантах или приехавших, попавших в Лондон относительно недавно.
И вот это вот три момента моей жизни — театр, радио и жизнь в Сохо, сближение с людьми в Сохо — это такие главные мотивы вот этой вот истории, которые, собственно говоря, стали возникать у меня в мозгах, у меня в голове. И, собственно говоря, вот этот сборник, «Нет причины для тревоги», — там как бы все вот эти вот мотивы, все эти темы, они возникают.
«Я был уверен, что эти два типа следуют за мной. Я старался не упускать их из виду в уличной толпе по дороге к метро. Их бандитская внешность пугала и одновременно завораживала меня своей экзотичностью: странная российская помесь дембеля из афганцев с панком из породы английских футбольных болельщиков. Такие зонтиков с собой, естественно, не носят, и, поскольку с холодного мартовского неба на прохожих моросила какая-то депрессивная весенняя дрянь, шикарный плащ, вроде моего, им бы явно не помешал. Я купил его год назад в дорогом и дождливом Дублине. Плащ этот защищал в принципе от любой непогоды – если он, конечно, на твоих плечах, а не на чьих-то еще. Казалось, эти два бугая сладострастно раздевали меня своими бегающими глазками тайком при всем честном народе. Похотливый прохвост и уличный громила крайне сходны в своих вкрадчивых замашках».
Зиновий Зиник, «Осторожно: двери закрываются», из сборника «Нет причины для тревоги».
Д. М.: Ну вот, возвращаясь к сборнику «Нет причины для тревоги», который кажется мне очень важным вообще для современной литературы в целом, и я о нем много думаю, вот, собственно, куда вошли рассказы за сорок лет, небольшие повести, большие рассказы, вот он закончен и издан в этом году, в конце весны — начале лета, но планируете ли вы, собственно, обращаться к теме границ, вот этой стены такой экзистенциальной, о которой вы сказали, это образ из философии экзистенциализма, и пересечения этих границ в своих будущих текстах как на русском, так и на английском? Ну, в свете, там, событий после 24 февраля и в целом вообще? Есть ли у вас такие проекты?
З. З.: Я вообще стараюсь не писать. Если рассказ какой-то возникает, а рассказ возникает просто из-за столкновения с какими-то ситуациями, которые напомнили тебе о чем-то. В результате ты не можешь избавиться от этого сходства и придумываешь форму, в которой это сходство может быть рассказано так, чтобы другим было интересно. Что же касается мотивов пересечения границ, сейчас как-то наивно рассуждать о собственной жизни отъезда 1970-х годов, советской власти… Страна эмигрировала, Россия эмигрировала два раза. Во-первых, она эмигрировала после перестройки. Я видел по своему отцу… У меня есть такая длинная повесть «Нога моего отца». Он был инвалидом войны. И я видел, как он не может понять, что происходит со страной. Он сам эмигрировал вот в это вот новое настоящее, перестроечное, с каким-то, с одной стороны, болезненным ужасом, а с другой стороны, радостью от того, что можно говорить о вещах, о которых он всю жизнь молчал. Я видел, как страна эмигрирует — трансформируется в другую страну. Эмигрирует от собственного прошлого. И потом произошло то, что произошло в 2000-х, то есть это еще одна трансформация. Обратная или не обратная — это уже другое дело. Это не мне рассуждать на эти темы, но в результате это породило еще одну эмиграцию — вашу как бы, вашего поколения. Но миграцию, я бы сказал, миграцию. Но факт состоит в том, что я сейчас живу уже сорок семь лет в Лондоне. Во-первых, я не эмигрант никакой. У меня британский паспорт. У меня израильский, кстати, паспорт, наверно, еще действует. Британский паспорт получил тридцать пять лет назад, по-моему… Тридцать семь, сорок лет? Не помню. Ну, в общем, никакой я не эмигрант, но мы живем в мире, где происходит совершеннейшая революция миграции. Миграция-трансформация, я бы сказал, во что-то беспрецедентное. Во-первых, на чисто таком элементарном уровне: в этом году, в 2022 году, мигрировали, нелегально пересекли Ла-Манш, Channel, English Channel, по-русски, по-моему, так и называют — Ла-Манш просто, по-французски, а по-английски мы называем это Channel, то есть «канал» практически… Это довольно широкое пространство между континентом, Европой и Великобританией. Сорок пять тысяч человек — вы можете себе представить? Сорок пять тысяч человек на каких-то резиновых лодках пересекало из побережья Франции в Кент, где у меня cottage, кстати, рядом с Дувром. Это люди, которые совершенно в таком же психическом состоянии решаются на этот шаг, вполне сравнимом с моей заведенностью, с моим решением уехать из России, из Советского Союза, в 1975 году. И я был не один. Более того, это я говорю на каком-то элементарном уровне миграции, нелегальной миграции. Моя эмиграция была легальная, и вполне, так сказать, обо мне заботились. Приехав в Иерусалим, я тут же получил общежитие. Это была замечательная комната с душем и туалетом. И дали пишущую машинку, подарили новую, и письменный стол, и такое офисное кресло. То есть создали полный комфорт. Я об этом только мог мечтать в Москве. Это была комната для будущих шедевров. Я тут же написал этот шедевр — «Извещение». Меня тут же обвинили в антисионистской, антисемитской порнографии, благодаря чему мои три последующих романа купило очень крупное французское издательство «Альбан Мишель». Это было одно из самых счастливых лет моей жизни, но тем не менее психологически я в каком-то смысле ничем не отличался от нынешних мигрантов, которые прорываются непонятно зачем в Англию, хотя могли бы устроиться и во Франции. Но это на элементарном таком уровне миграции. Но есть еще пересечение границ — мы живем в век смены идентичности. Это одна из самых главных… Как бы все разговоры идут вокруг этого. Все газетные статьи и журнальные статьи, книги, эссе, романы пишутся о возрождении идеи поисков собственных корней, расы, общины, коммунальности. Проблема принадлежности стала главной темой всех интеллектуальных разговоров и эссе. Это удивительно, потому что еще где-то в 1970-е годы, 1980-е, все эти последние сорок — пятьдесят лет царствовала послевоенная, после Второй мировой войны, концепция универсализма, гуманизма. Когда люди, даже, там, Джеймс Болдуин, Мартин Лютер Кинг требовал, встал как бы на борьбу за освобождение евреев из советской России. Короче говоря, было, скажем, единство между движением за права человека среди еврейских активистов Америки и активистов черных в Америке. Джеймс Болдуин писал о универсализме против выражения любой ненависти. Сейчас выражение ненависти является частью креативной защиты собственных корней и собственной идентичности. Короче говоря, вот эти вот моменты transgender, проблемы гендерные, проблемы сексуальности. Идет какая-то удивительная трансформация человеческого сознания. Идет перестройка всех отношений и критериев национализма. Мне это, если говорить, если заниматься каким-то спекулятивным, новеллистическим, и я пишу об этом, шарлатанским, я бы сказал, историцизмом таким, то я бы сравнил ситуацию с падением империи Наполеона. Скажем, в Германии, где вы сейчас находитесь, до наполеоновских войн атмосфера была космополитическая. Там были салоны, где, скажем, у Рахель Левин, дочери не очень богатой, обеспеченной еврейской семьи, в центре Берлина был салон, который посещал и Гёте, и братья Гумбольдт, и Шамиссо, кстати, Адельберт фон Шамиссо, автор замечательной тоже сказки моего детства о человеке, который потерял свою тень. Я сейчас хочу об этом поговорить немножко, чуть позже. Но после падения, после разгрома Наполеона кончились все вот эти вот, торжество вот этих вот универсальных космополитических идей. В Германии вдруг начались ростки страшного национализма и трайбализма — как это по-русски сказать, я не знаю. Это какой-то такой вот племенной разъединенности людей. Это возрождение национализма, оно проявилось очень просто. Этот салон Рахель Левин, о которой написала первую замечательную книжку Ханна Арендт, — этот салон просто опустел. Его перестали посещать. Потому что выяснилось, что она еврейка все-таки, а не какая-то салонная дама из высших интеллектуальных кругов Берлина. Я просто хочу сказать, что мы переживаем какой-то кризис идеи универсализма, и, во всяком случае, на каком-то улично-газетном, на уровне сплетен, радио, телевидения, масс-медиа речь идет о возрождении, о возврате к поискам своих собственных расовых, национальных корней и проблемах идентификации, разъединения гендерного и сексуального, что немыслимо, скажем, в эпоху 1980-х, даже 1990-х годов, когда проблемы, скажем, не было, никто не задумывался о том, в каком лагере. Если даже ты занимаешься активизмом в гей-мире, гомосексуальном, от тебя никто не требовал никакого самоопределения, к какой группе ты относишься. То есть вот эти вот проблемы границ, они, конечно же, никуда не деваются, а наоборот, они обострились, и в этом смысле эмиграция как такое вот метафизическое понятие, которое я ввел в этом разговоре, оно, наоборот, стало еще более актуальным.
«Маловероятно, что мы когда-либо встретились бы с ним в Москве. Но здесь, в Лондоне, с моим ярлыком эмигранта (в те годы никто из уехавших из СССР не называл себя экспатриантом, мигрантом, беженцем или просто «уехавшим», а именно эмигрантом) подобная встреча была бы еще недавно просто немыслима. Пропасть между советскими «выездными» и теми, кто покинул Советскую родину навсегда, была невообразимой: советские люди за границей просто шарахались от нас, эмигрантов, как от чумных. Мы все были «невозвращенцами». Но к середине восьмидесятых стали происходить незаметные перемены. Мои друзья в Париже и в Нью-Йорке с удивлением сообщали о неожиданных встречах с заезжими полуофициальными визитерами из Москвы, готовыми общаться с бывшими советскими гражданами за границей. В общении с нами, иностранцами по паспорту, все они или делали вид, как будто ничего особенного не происходит – мол, случайно заехали, встретились, поговорили о том о сем, – или, наоборот, строили трагическую мину, как будто все мы – и мы, и они – смертельно больны и остается надеяться лишь на чудо».
Зиновий Зиник, «За крючками», из сборника «Нет причины для тревоги».
Д. Л.: Я как раз хотел бы подхватить ваш ответ и задать следующий вопрос, по поводу того, что происходит сегодня. Третья волна эмиграции, к которой вас относят критики и исследователи, оказалась творчески довольно состоятельной, и не только творчески. Позднее эмиграция за редким исключением уже не расценивалась как волна. Это в большей степени была совокупность частных, конкретных решений, не исключающих возможность возвращения. Сегодня ситуация изменилась коренным образом. В чем вы видите отличие новой волны эмигрантов, и считаете ли вы вообще это волной? Каков, по вашему мнению, ее потенциал, если это действительно волна?
З. З.: Ну вот последнее время даже на уровне Фейсбука идут разговоры, что слово «эмигрант» неуместно. Просто действительно, я всегда так считал. Ну какой я эмигрант — с британским паспортом сорок семь лет, сорок восемь лет в Англии? И почему нужно считать эмигрантом человека с паспортом, который в Россию все время ездит? Это человек, который, как, я не знаю, там, если речь идет о писателе, то Грэм Грин, скажем, провел бо́льшую часть жизни на юге Франции. Энтони Бёрджесс делил свое время между Швейцарией, Францией и Италией. Просто вообще практически не возвращался в Англию. Гоголь, между прочим, Николай Васильевич, о котором мне нужно писать сейчас длинную, большую статью по-английски, бо́льшую часть жизни провел в Риме, где он написал «Мертвые души», первый том. Говорить о них как об эмигрантах довольно странно. Джеймс Джойс придумал эту концепцию на самом деле. Хотя он прекрасно мог вернуться в Ирландию, но он создал вот этот вот миф, миф эмигранта. Эмигрант — это беженец от французской революции XVIII века в Англию главным образом, и они действительно ждали, когда можно будет вернуться, и бо́льшая часть из них вернулась. Но некоторые остались, и среди них был сын эмигрантов Адельберт фон Шамиссо. Семья бежала от французской революции в Германию. Они поселились в Берлине, и он кончил Берлинский университет, как и мой дедушка. Но в связи с наполеоновскими войнами Наполеон под угрозой расстрела, в общем, лишил его права возвращения во Францию — поскольку он служил в прусской армии одно время. И таким образом он стал изгнанником. И он написал историю, которая просто очень важна для моей жизни после России, но которую я знал с детства и очень ее любил, о человеке, который потерял свою собственную тень. Он потерял свою собственную тень. Продал ее дьяволу за какой-то мешок, там, денег и так далее, и так далее. Но вот эта вот история о потерянной тени — это, естественно, история о потерянном прошлом. Это непринадлежность к настоящему. И человек, который не принадлежит к настоящему, в том месте, где он находится, он и есть, с точки зрения Шамиссо, эмигрант, изгнанник, экспат. Но сам Шамиссо говорил и писал по-немецки. Он был и очень известным этнографом. Он совершил, кстати, как этнограф, стал членом экипажа капитана Коцебу, русского корабля, который совершил кругосветное путешествие. Одни из первых посетили Сан-Франциско. Шамиссо открыл еще замечательный тип медузы, которая… Я не буду об этом говорить. Это совершенно феноменальное открытие он сделал. О медузах, кстати, тоже, я писал об этом, это удивительная история. Это тип медузы, salps, которые в одном поколении, они ведут себя как индивидуумы… Это, кстати, относится к нашему разговору. Эти вот salps, эти медузы, они в одном поколении живут как индивидуумы и сближаются друг с другом парами, а в другом поколении они становятся таким длинным организмом и размножаются как огромный длинный коллектив. И некоторые считали, что Шамиссо это придумал просто, как человек с изобретательным умом, но на самом деле это поразительная метафора. Ее потом подтвердил Хаксли, ученик Дарвина. Вообще это, так сказать, исследование подтвердилось, и сейчас это общеизвестный факт. Но удивительно то, что, с моей точки зрения, такого рода метаморфозам подвержены и страны, и нации. В один период они свободные, а в другой период становятся таким страшным коллективом. Короче говоря, что я хочу сказать. Что есть в ситуации люди, которые пытаются осознать себя в новой стране как часть этой страны и стать частью жизни этой страны, а есть люди, которые ждут, когда они «перезимуют». То есть они используют эту страну как некую дачу. Вот у меня есть cottage рядом с Дувром. Я из лондонской квартиры, из Хэмпстеда, езжу периодически в этот cottage. Пишу рассказы. Некоторые рассказы вошли в этот сборник. О жизни замечательной и интересной, совершенно другой, чем Лондон, жизни вот этого маленького прибрежного городка. Так вот, есть люди, которые переехали в Европу или в Америку, в Бангкок, я не знаю, чтобы просто перезимовать страшную ситуацию в России. А есть люди, которые, приехав в другую страну, ну, я не знаю, обосновавшись в конечном счете в какой-то другой стране, становятся ее частью. Для этого надо преодолеть отношение к чуждости. Потому что… Особенно в России — просто потому, что Россия очень многие периоды истории была отделена от всего мира. Есть просто страх перед чуждостью. Я знаю это по людям. У меня его, этого страха, не было. Я не знаю, я извращенец, наверное. Я люблю все, что непонятно. Я, может быть, Лондон выбрал именно потому, что здесь не было никаких русских вообще. Была одна старая приятельница, которую я, по крайней мере, знал по Москве. Это Маша Слоним. И человек, с которым я сблизился тут же, приехав в Лондон, Александр Моисеевич Пятигорский. Ну и рядом с ним Игорь Голомшток. И еще такой третий замечательный персонаж — Александр Гольдберг, который вдохновил меня на историю, которой открывается этот сборник, «Нет причины для тревоги». Он стал водить меня по ресторанам. Он был большой гурман и знаток ресторанной жизни Лондона. Это были как путешествия в другие страны, потому что Лондон кулинарный — это совершенно интернациональная держава в этом смысле, в кулинарном смысле. Здесь можно найти любую кухню, которая существует на свете. Это такая империя, которая такая вывернулась в, с одной стороны, радио — это на тридцати трех языках вещает, или я не знаю, какая точно цифра, но действительно около тридцати языков, на которых вещает World Service, всемирная служба Би-би-си, и вот ресторанная жизнь — это тоже своего рода… Это следы бывшей империи, которые здесь поселились в разных странных манифестациях. Так вот, вот эта вот чуждость, она меня всегда занимала. И я думаю, что сейчас современная тенденция — это искать какую-то близость, искать свои корни. Черные люди, черное население Америки, активисты, во всяком случае, и вслед за ними интеллектуальная элита Америки стала называть чернокожих афроамериканцами, указывая на тот факт, что они родом из Африки. Есть замечательный писатель… Ну, скажем, Джеймс Болдуин тоже так считал. Есть ряд… Некоторые писатели, которые оскорблены такого рода тенденцией — называть чернокожих афроамериканцами. Почему их не называть просто американцами? Почему нужно все время вспоминать тот факт, что ты не просто российский человек, нет, ты еще еврейский русский? Или ты узбекско-русский. Короче говоря, вот эти вот идеи поиска корней, они на данный момент считаются каноном понимания самого себя. Что для того чтобы понять себя, нужно долбить землю в поисках своих корней. Я давно сказал, что, если слишком долбить землю в поисках корней… А у меня сад есть в этом cottage, и я кое-что понимаю в садоводстве. Если ты очень так долбишь, то ты можешь повредить корни, и дерево умрет. Нечего так рыться в этом прошлом, с моей точки зрения. Но трудно возражать в толпе, поэтому я инстинктивно вообще держусь от всех общих теорий подальше. Наоборот, я считаю, что только через чуждое можно понять самого себя.
У меня есть три книжки, во всяком случае, целиком написанные по-английски. Одна из них под названием… Небольшая книжка под названием «History Thieves». «Похитители истории», наверное, надо переводить. Она по-русски не существует. У меня давно была идея перевести ее, но как-то руки не доходят. Это история, связанная с тем, что мне в какой-то период начали сниться сны, где… Мне очень часто снятся такие сериалы. И вот один из сериалов, он был связан с каким-то домом. Я вижу его перед каждым началом каждого сна. Я видел фасад, такая крыша… Слегка он такой обтрепанный, такой обветшалый дом, где черепичная крыша, три этажа, какое-то дерево, и внутри происходили разные вещи. Я встречался с покойной бабушкой там. Почему-то библиотека какая-то. Потом, я считаю, что я вижу во сне, я знаю во сне, что какие-то комнаты с замечательной мебелью заняли какие-то другие люди. Каким-то образом надо бороться за эти комнаты. И так далее, и так далее. Разные отношения среди населяющих этот дом возникали во сне. И, короче говоря, снился этот сон. И у меня был период, когда я очень много ездил в Берлин по разным личным соображениям, и это было где-то в 2002 году, в апогей этого сериала во сне. Я хотел посмотреть памятник тому же Шамиссо, который находится в старой части Берлина, и я шел со стороны канала. Надо перейти небольшой мост под названием… Это пешеходный мост старинный под названием Монбижу. Справа знаменитый музей древностей, и, переходя этот мост мимо этого музея, на другой стороне слева я вдруг увидел этот дом, который мне снился. Это была просто копия дома из моего сна. Я совершенно… Есть свидетель просто. Я был не один. Я совершенно… Был шок. Я подошел к этому дому, естественно, и стал смотреть, что это за дом. Выяснилось, что это медицинский факультет университета имени Гумбольдта. Я совершенно ничего не понимал просто. Я стал интересоваться. У меня есть двоюродная сестра — единственная, которая помнит какие-то подробности истории нашей семьи. И я рассказал ей эту историю. Она сказала, это университет, в котором учился мой дед. Он его окончил. Он сначала учился в Кёнигсберге, а потом перешел в университет Берлина. И я, естественно, совершенно онемел. Потому что каким образом это все увязывалось во сне, я не понимаю. Потом я стал строить разные теории. Разные теории состояли в том, что, например, может быть… Я все детство провел у дедушки с бабушкой, у этого деда, который закончил Берлинский университет. Он в России был доктором, сельским врачом, в мистическом месте под названием Бобрик-Донской, где я провел практически свое детство. Меня родители сбагривали туда. И я подумал, что, может быть, может быть, мистическая теория состоит в том, что я как бы предвидел все это в своем сне. Потому что я как писатель, я романист и так далее. Что у меня, значит, способность к пророчеству или предвидению. Но есть более реалистическое объяснение. Видимо, у него была фотография где-нибудь, стояла, этого университета. И у меня в детстве бессознательно эта фотография засела в памяти. Это одно из реальных объяснений. Но, начав интересоваться этой ситуацией, моим дедушкой, я выяснил, что, оказывается, он приблизительно десять лет перед войной, в 1930-е годы, он почему-то исчез из семьи, приезжал туда раз в год на каком-то черном лимузине с занавесками, и, как в результате выяснилось, он писал отчеты по заданию НКВД о положении в Литве перед войной. Он поехал в Каунас, открыл там клинику как врач. Он говорил по-немецки, естественно, свободно. Открыл там клинику и писал отчеты советской власти о настроениях в населении в Литве. Потому что Литва находилась… Проблема выбора была. Там они не знали, выбрать в союзники Германию, в конце 1920-х — начале 1930-х годов, Германию, Россию или Польшу. И, видимо, вот это вот политическое положение в Литве советскую власть очень интересовало. И они, видимо, послали его в качестве секретного агента. Короче говоря, что я хочу сказать? Что в этом городе Берлине, который я практически… Это был совершенно новый для меня город. Через совершенно чуждые вещи для меня я узнал больше о себе и о собственной семье, чем если бы я изначально стал рыться бы в каких-то бумагах, которых у меня нету, которых я бы не нашел и никогда бы не знал, что, собственно говоря, спрашивать. Короче говоря, я просто хочу сказать, что именно только через чуждость ты начинаешь понимать самого себя, и в этом смысле в Израиле, который был для меня какой-то дикой новостью совершенно, я чувствовал себя потрясающе. Я был в совершенно радостном возбуждении, в каком, я думаю, я не знаю, там, человек, оказавшийся в любой экзотической стране. Ряд моих знакомых, например, оказались в Бразилии. Или вот Денис оказался в Бангкоке. Это экзотика поразительная. И благодаря этой встрече с какой-то экзотикой высвечивается что-то такое в твоем прошлом. И в этом смысле я думаю, что… Я ушел от вопроса, я боюсь, что… Единственное, что я хочу сказать, — что вот люди разделяются… Какое бы поколение миграции из России ни было бы, люди из России разделяются на тех, кто готов узнать страну, в которой они оказались, которая, казалось бы, им чужда, и люди, которые все время пережидают, так сказать, это вот странное настоящее, чтобы вернуться в свое прошлое. А прошлое не существует, как известно. Оно уже стало другим, настоящим. Поэтому, возвратившись, оно тоже как бы другая страна. Это другая чуждость. Я знаю, там, скажем, переводчики моих французских романов — это те левые, коммунисты 1960-х годов, которые уехали в Россию как в Мекку, и они работали все в издательстве «Иностранная литература», и было издательство — как оно называлось, я сейчас не могу вспомнить, — классическое, вы, наверное, знаете. Все это знают. Которое издавало российских авторов на иностранных языках. «Прогресс», да. Они работали, это совершенно точно. В этом «Прогрессе» они переводили соцреализм на французский язык и провели там лет двадцать. Как раз когда я выехал из России и издательство французское это «Альбан Мишель» закупило мои романы, они меня переводили. И я с ними, естественно, выпивал и беседовал. Это история о том, как страшно возвращаться туда, откуда уехал. Потому что за двадцать лет они полностью разочаровались в России. Они поняли, что все их светлые коммунистические увлечения оказались блефом. А с другой стороны, приехав во Францию, они нашли Францию совершенно чуждой страной. Это другая страна. И это любопытно очень. Я сейчас пытаюсь написать о своем друге, ирландце, который… Провел очень много лет с ним в Лондоне. Который очень много провел времени в Москве. Он преподавал английский университетским преподавателям английского в Московском университете. И он сблизился с бывшей женой Асаркана и вывез ее в Лондон. Поэтому он был таким промежуточным звеном между моей лондонской жизнью и друзьями, оставшимися в Москве. Он трагически закончил свою жизнь. Я не хочу об этом говорить сейчас, но вот эти вот перемещения, они даром не проходят, конечно.
Но я не сказал ничего про… Но я не ответил, Денис, на ваш вопрос о том, чем нынешняя эмиграция отличается от прежней. Я не знаю, это просто… Сейчас происходит какое-то чудо. Происходит действительно чудо. Потому что я упомянул Бразилию — там оказался редактор очень хорошего литературного московского журнала «Носорог». Какое-то время он был в Бразилии. Вы, скажем, с которым я сейчас веду разговор, в Бангкоке. Денис, ведущий, в Берлине. И при этом книги продолжают издаваться в Москве. В 1970-е годы, в эмиграции 1970-х годов, говоря о творческом начале, это же была просто удивительная ситуация, когда вдруг можно было печатать все что угодно после советской власти, после жизни при советской власти. Невероятное количество эмигрантских журналов появилось — в Израиле, в Нью-Йорке, в Париже. В Лондоне практически ничего не было. В Лондоне не было никакой, так сказать, русской общины. Но что происходило? Кроме эмигрантских авторов, вся Россия, все российские более или менее значительные молодые, новые диссидентствующие или инакомыслящие, или стилистически авангардные авторы, которых немыслимо было бы издать при советской власти в СССР, они все издавались за границей. От Венички Ерофеева до Сорокина. Все это издавалось на Западе. Сейчас ситуация удивительная. Сейчас ситуация перевернулась, просто обратным образом. На самом деле все авторы и, я бы сказал, даже большинство из моей аудитории — все они находятся за границей, а книги издаются, продолжают издаваться в России. Потому что мы живем в удивительную эпоху. Мы сейчас с вами разговариваем по этому чудесному механизму… Я не знаю, это не механизм, я не знаю, удивительная вещь. Например, интернет же появился. Это революция совершеннейшая, невероятная.
Я писал письма каждый день, по три письма обратно в Россию. Все письма, кстати, доходили, но они доходили со страшной задержкой. Ответ приходил через месяц после того, как я отправил письмо свое. Происходило какое-то странное смещение времени. Сейчас у нас есть интернет. Я бы назвал нынешнюю миграцию не эмигрантами, а e-мигрантами, то есть e-мигрантами, электронными мигрантами. Э-мигрантами как от слова «электроника». Э-мигранты. В том смысле, что мы живем в некотором другом пространстве. Мы больше не живем в пространстве Востока и Запада. Я в какой-то момент жил на юге Лондона, куда после двенадцати добраться было так же сложно, как из России вообще в Европу. Но там… Это рядом с Гринвичем. Там был нулевой меридиан, и можно было встать одной ногой на Запад, другой на Восток. Так вот, вот это разделение на Восток и Запад, с точки зрения литературы, больше не существует, если оно вообще существует. Потому что мы живем… Я бы сказал… Я еще изучал топологию в университете геометрическую. Мы живем как минимум в четырехмерном пространстве. Это больше не разделение на за стеной, вне стены. Потому что через стену можно прыгнуть через интернет. Это какое-то другое, еще одно, измерение. Это не просто общение. Это некое другое мышление. И в этом смысле, конечно, это кардинальным образом отличается, потому что в результате редактор в одном месте, книга издается в другом. Автор в одном месте, его герои в третьем. Это совершенно… Это какое-то… Я не знаю. Это заведомо уже неевклидова геометрия эмиграции и пространства. Это какая-то такая квантовая механика общения. Она, конечно же, каким-то образом должна проявляться в литературе. И я заметил это. Даже когда писал один из своих первых романов, «Перемещенное лицо», я обыгрывал этот факт, что какая-то временна́я задержка происходит из-за писем, и поэтому события, которые происходят в один момент, в другом пространстве на самом деле они становятся прошлым для события, которое как бы еще не произошло. Там очень интересные такие вот моменты. И в этом смысле, конечно, это ждет еще своего ответа — вот такая вот странная ситуация с нашим мышлением и революция, как я говорил, идентичности, и, с другой стороны, революция общения и связей, вот это вот четырехмерное, пятимерное пространство, в котором мы живем и в котором мы мыслим, и в котором мы общаемся. Это, конечно, каким-то образом проявится, и оно проявляется в экспериментальной прозе, но меня эта проза… Я ее с удовольствием читаю. Как всякая исповедальность, я ее чуждаюсь сам. Я могу об этом поговорить, но это другое дело. Другой вопрос.
Д. Л.: Я думаю, что если бы не законы нашего жанра, то мы бы с удовольствием остались здесь еще не на один и не на два часа в этой волшебной Зум-комнате. Технологии нам позволяют сегодня творить великие вещи, как вы сказали, Зиновий. Огромное вам спасибо за то, что нашли время и поговорили с нами. Напомню, что сегодня мы говорили, точнее, отталкивались от книги «Нет причины для тревоги», в которой собраны рассказы Зиновия Зиника, написанные за несколько последних десятилетий. Всех слушателей мы к этой книге отсылаем. Ее можно найти на нашем сайте и на сайте выпуска, на странице на платформе «НЛО Медиа». Мы вас, Зиновий, отпускаем. Спасибо вам огромное еще раз, и, возможно, мы еще встретимся в рамках нашего подкаста. Кто знает? До новых встреч.
Библиография по теме выпуска
- Зиник З. Третий Иерусалим. М., 2013.
- Гауф В. Карлик Нос. М., 2021.
- Шамиссо А. Необычайные приключения Петера Шлемиля. Повесть. М., 1955.


