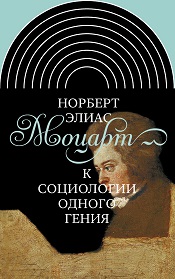Что такое интеллектуальная история

Подкаст ведут: Тимур Атнашев, Михаил Велижев.
В первом выпуске подкаста «Умные книги» на этот вопрос отвечают историки Тимур Атнашев и Михаил Велижев, разбирая книгу Ричарда Уотмора «Что такое интеллектуальная история?».


- 00:00:56 О книге Ричарда Уотмора «Что такое интеллектуальная история?»
- 00:02:29 Чем интеллектуальная история отличается от других подходов
- 00:04:17 «Хороший интеллектуальный историк должен быть глупым»
- 00:06:13 Об англоязычной научной традиции интеллектуальной истории
- 00:09:55 Первая цитата из книги Уотмора о двух способах читать тексты прошлого
- 00:19:26 «Любое сопоставление с настоящим лежит через понимание прошлого как другого»
- 00:20:37 Вторая цитата и ее разбор
- 00:33:00 Чаадаевское дело глазами интеллектуального историка
→ Читать полностью
«НЛО Медиа» представляет «Умные книги».
Тимур Атнашев: Добрый день! В эфире подкаст «Умные книги». Подкаст о книгах, которые открывают нам, как люди думали в прошлом, о том, почему они так думали и что они думали. Ведущие подкаста — историки Михаил Велижев и Тимур Атнашев, редакторы серии «Интеллектуальная история» в издательстве «Новое литературное обозрение». Иногда мы будем вести этот подкаст вдвоем, как сейчас, но чаще мы будем приглашать гостей — ведущих специалистов, историков, философов, филологов, социологов, с которыми мы будем обсуждать публикации нашей серии, а также будем обсуждать те книги, которые в свое время произвели на наших гостей настолько сильное впечатление, что, скажем, в юности или в уже зрелом возрасте они повлияли на их жизненную траекторию, на их карьеру. В целом «Умные книги» — это живой разговор о том, как думали люди в прошлом и что нового мы от них можем узнать сегодня.
Михаил Велижев: Здравствуйте! Сегодня мы будем обсуждать книгу, которая для нашей серии «Интеллектуальная история» имеет первостепенное значение. Это книга Ричарда Уотмора, замечательного историка, интеллектуального историка и историка политической мысли, которая так и называется: «Что такое интеллектуальная история?» Это книга, которая вышла в 2015 году и перевод которой в скором времени, как мы надеемся, появится в издательстве «Новое литературное обозрение». Автор — известнейший специалист по истории политической мысли и по теории интеллектуальной истории одновременно, который преподает в университете Сент-Эндрюс, и он принадлежит к так называемой Сассекской школе интеллектуальной истории, которая очень близка к Кембриджской школе. И мы расскажем сегодня, что это значит, в течение разговора. А кроме того, очень важно, что Уотмор совмещает две валентности. С одной стороны, он теоретик, он занимается ответами на вопросы, что такое интеллектуальная история, в чем состоят основные проблемы, достоинства, недостатки интеллектуальной истории, какова история интеллектуальной истории и ее перспектива, ее будущее. А с другой стороны, он сам практикует интеллектуальную историю, он занимается историей политической мысли рубежа XVIII — XIX веков, швейцарской, в контексте британской, французской, вообще, так сказать, такой трансатлантической. Один из ведущих специалистов по интеллектуальной истории, и в этом смысле нам кажется принципиально важным начать разговор подкаста «Умные книги», связанного с серией «Интеллектуальная история», с ответа на этот сакраментальный вопрос: так что же такое интеллектуальная история? Ответ Ричарда Уотмора на этот вопрос мы сегодня и обсудим.
Т. А.: Могли бы задаться вопросом, а что же является тогда неинтеллектуальной историей, если мы вводим такое понятие? Может показаться, что это какое-то совсем невнятное и слишком обширное понятие либо, значит, ему противостоит, интеллектуальной истории противостоит какая-то неинтеллектуальная или глупая история, что, в общем, не входит в наши планы. Интеллектуальные историки изучают самые разные тексты, включая и даже иногда, наверно, те тексты, которые нам могут показаться не очень глубокими или серьезными. Но что, наверно, объединяет на самом деле эту историю — это прежде всего метод. Это определенный взгляд на то, что такое человеческая жизнь, что такое человеческая культура, ну и, соответственно, что такое история. И этот взгляд и этот метод связаны с изучением языка и языка тоже, в общем, в еще такой более специальной перспективе — языка как способа именно общаться. Как способа общаться, взаимодействовать, воздействовать друг на друга и одновременно ориентироваться в мире. И в этом смысле в эту широкую рубрику «интеллектуальная история», если говорить все-таки про такие наиболее распространенные, скажем так, типы материалов, попадают, безусловно, политическая мысль или политическая философия. То, что, может быть, шире и вот удачно можно назвать словом «мировоззрение». Сюда же входит история, например, наук и научных дисциплин конкретных. Сюда входит история эмоций, история живописи может быть частью этого же широкого подхода. И каждый раз что у нас будет объединять эти разные, в общем, на самом деле предметы — это именно тот способ и метод, которым мы будем интерпретировать высказывания прошлого. Поговорим о нескольких таких фундаментальных установках внутри этого взгляда. И, наверное, ну вот первое, с чего можно начать, — это с утверждения дистанции. С утверждения дистанции и даже, может быть, такого принципа презумпции непонимания. Хороший интеллектуальный историк должен быть глупым. В каком смысле? Он должен быть готов к тому, что он не понимает, что говорят, пишут, о чем говорят и пишут те люди, к текстам и высказываниям которых мы обращаемся. И эта презумпция непонимания, естественно, не носит тотальный характер, но она чрезвычайно важна как установка. И, собственно, откуда берется непонимание, откуда берется эта дистанция — эта дистанция связана не с исторической дистанцией в хронологическом смысле, а скорее с культурной дистанцией, которая на самом деле отделяет нас и от многих наших современников. То есть мы в этом смысле… Ну, может быть, если мы будем изучать мысль Индонезии или, значит, какие-то эмоциональные состояния людей в Индонезии, вполне возможно, будет разумно точно так же, собственно, как и делают наши коллеги-антропологи, исходить из этой самой презумпции. И в этом смысле работа интеллектуальных историков — это работа с чужими языками, с чужим мировоззрением, которая основана как раз на установке на то, чтобы погружаться, открывать для себя что-то новое. Ну и мы надеемся, что наша серия, эти книги, которые мы будем представлять, тоже демонстрируют нам какие-то новые мыслительные ходы, которые не вполне доступны в современном интеллектуальном контексте, ну или в том круге мировоззренческом, в котором каждый из нас живет.
М. В.: Ну, я бы мог добавить к этому, что существует короткая история понятия «интеллектуальная история». Мы можем сказать, что, во всяком случае, в отечественной традиции интеллектуальная история — это не очень ясно, что такое. Здесь существенно, что в отечественной традиции понятие «интеллектуальная история» не имеет четкого определения — в том смысле, что, когда звучит словосочетание «интеллектуальная история», ассоциации могут быть самыми разными. Это история интеллектуалов, это история мыслительной деятельности как таковой, любых продуктов человеческой деятельности и человеческого мышления. А это может быть на самом деле история интеллектуальной продукции масс, то есть не интеллектуалы, а самые разные объекты. Надо сказать, что более или менее та же ситуация наблюдается и в европейских традициях. Когда существует другая терминология, которая не сводится к интеллектуальной истории, к ее понятийному ряду, а единственным научным пространством, в котором интеллектуальная история обладает четким значением, понятным, которое не нужно угадывать, а которое возникает сразу же, ассоциации возникают сразу же, когда мы видим название «интеллектуальная история», — это англоязычная традиция. Но и здесь надо сказать, что все обстоит довольно хитро, потому что в англоязычной традиции, в британской, американской, существуют две разные интеллектуальные истории. Одна интеллектуальная история — это постмодернистская интеллектуальная история, которую, собственно, ну, по большому счету, историей не всегда можно назвать. Это, скорее, теория историографии или история историографии, где ученые подразумевают, что выхода прямого к реальности прошлого у нас по определению нет и, собственно, наличие посредников в виде источников лишает нас, по большому счету, всяких правил интерпретации. Ну и поэтому интеллектуальный историк может совершать со своим материалом самые разные операции. А с другой стороны, существует Кембриджская интеллектуальная история, к которой, собственно, и примыкает наш сегодняшний герой — Ричард Уотмор, которая, собственно, утверждает прямо противоположное. Эта версия интеллектуальной истории базируется на том, что мы называем историцизмом или историзмом. Этот подход означает только одно: что мы, реконструируя прошлое, стремимся воссоздать ход мыслей людей прошлого. То, о чем уже Тимур прежде говорил. А мы не редуцируем прошлое к настоящему и не пытаемся навязать прошлому актуальную политическую или научную повестку. Это не значит, что прошлое познаваемо. Этот вывод был бы достаточно наивным. Познаваемо в принципе, познаваемо тотально, абсолютно. Нет, речь идет о том, что необходимо выдвигать ответственные гипотезы о том, что люди думали прежде, и их критиковать. И это абсолютно — в известном смысле — научный подход, который практикуют историки Кембриджской или Сассекской школы, к которой принадлежит Уотмор.
Таким образом, говоря об интеллектуальной истории, дальше мы будем говорить именно об интеллектуальной истории Кембриджского образца, к которой, собственно, и принадлежит автор книги «Что такое интеллектуальная история?»
Т. А.: Правильно я понял… Ну, уточнение, может быть, для наших слушателей. Вот эта оппозиция между постмодернистами и, значит, историцистами или, как мы их в другом месте назвали, реалистами, такими, значит, историческими реалистами, языковыми реалистами, она, получается, в том, что постмодернисты готовы и призывают к такому творческому — здесь я намеренно употреблю позитивное прилагательное — к творческому обращению с первоисточниками и с историей, с высказываниями прошлого. Тогда как, получается, вот эта историцистская доктрина, она обязывает исследователя все-таки… Она его дисциплинирует. Она требует от него некоторого отчета в том, какая версия лучше и почему, собственно, он так воспроизводит аргументы или представления людей прошлого. Тогда, наверно, возникает вопрос, а каковы же критерии, каким образом можно выстраивать вот эту иерархию или опровергать и подтверждать гипотезы в ту или иную сторону.
М. В.: Что касается опровержения гипотез, то понятно, что это опровержение прежде всего должно быть строгим и оно должно быть основано на анализе источников в широком смысле слова. То, чем, собственно, и занимается интеллектуальная история, по большому счету. Это анализ исторических источников, их качества, их содержания, их формы, довольно важно, и мне кажется, что здесь историческая наука или, правильнее будет сказать, историко-филологическая наука за истекшие столетия разработала довольно большое количество процедур, с помощью которых мы можем определить, какое из утверждений о прошлом более правдоподобно, а какое — менее правдоподобно. И здесь я как раз проблемы не вижу. Всякий раз мы должны смотреть на конкретную интерпретацию и проверять, проверять ее, фальсифицировать, в терминах Поппера, смотреть, в какой мере мы можем ее оспорить и какие следствия из этой гипотезы могут проистекать.
Т. А.: Да. Может быть, мы тогда, наверно, вот приведем вот тогда, может быть, несколько примеров обращения, скажем так, вот как раз… И, собственно, обе наши цитаты… Мы подготовили две цитаты, которые можем разобрать и, может быть, через них показать, как можно приближаться, с точки зрения интерпретации значения того или иного высказывания, и небольшие цитаты нам помогут как раз, может быть, немножечко грубо, но явно противопоставить два способа относиться к высказываниям прошлого. И вот, собственно, сам Уотмор рассказывает о собственном опыте студенческом, правда, уже после знакомства с Кембриджской школой британской. Он попадает в Кембридж американский, штат Массачусетс. Цитата: «В Кембридже, Массачусетс, я прослушал курс, который читала несравненная Джудит Шклар. На занятиях Шклар побуждала аспирантов к установлению связей между изучаемыми в рамках этого курса текстами авторов былых эпох и вопросами актуальной политики. Таким образом, нам следовало задуматься, какую позицию занял бы тот или иной автор, столкнувшись с противоречиями современного мира. Предметом продолжительных дискуссий служил, например, такой вопрос: стал ли бы Монтескье сжигать флаг Соединенных Штатов Америки? Эти дебаты вызывали у меня чувство глубокого недоумения, потому что я не видел никакого смысла в поиске ответа на вопрос, который, как казалось мне в то время и кажется до сих пор, ничего не прибавляет ни к нашим знаниям о Монтескье, ни к нашим знаниям о природе политических идей прошлого и настоящего. Меня учили, что мы читаем труды авторов прежних времен с тем, чтобы узнать их мнение о волновавших их вопросах. Увязать их воззрения с нынешней политической проблематикой возможно, но лишь сложным и косвенным образом. Шклар же, напротив, предлагала участникам своих семинаров обсуждать прямо аргументы, приводимые в изучаемых текстах, давать им оценку и сопоставлять их с современными взглядами и современными вопросами, такими, как история с Монтескье. Шклар была вдохновляющим педагогом, не признававшим догм и поощрявшим в своих учениках самостоятельность мышления. В отличие от моих наставников в британском Кембридже, она принципиально отказывалась высказывать свою позицию по обсуждаемому вопросу и сводить свои семинарские занятия к упражнениям по передаче сведений о том, как думали люди в прошлом. Это было досадно, поскольку я понимал, что Шклар разбирается в политике XVIII века лучше, чем когда-либо буду разбираться я, и я хотел учиться у нее этому». Вот здесь Уотмор указывает на то, что Джудит Шклар была блестящим специалистом по политической мысли XVIII века и по XVIII веку в целом, но при этом ее педагогический прием, так сказать, и способ, каким она преподавала эту историю американским студентам, он заключался в том, чтобы спрашивать их о том, как позиции мыслителей прошлого могли быть спроецированы на современные вопросы. Про флаг, про… Мы могли бы добавить туда, я не знаю, аборты, войну в Ираке или что-нибудь еще в этом роде. Михаил, как вот ты бы пояснил, почему и что здесь смущает Уотмора? Почему он не согласен? Казалось бы, это, можно сказать, логическое построение — что бы мог думать Монтескье по вопросу о сжигании флага. Почему мы здесь не выходим за рамки интеллектуальной истории, когда спрашиваем этот вопрос?
М. В.: Да. Но мне кажется, что прежде всего Уотмор имеет в виду в сущности довольно простую вещь. Как только мы переводим Монтескье из исторических мыслителей в актуальные, мы навязываем Монтескье проблемы, которые решительно его не интересовали, но не просто не интересовали, но не могли по определению интересовать. То есть в этом вся проблема. Монтескье ничего не знал о том, что происходит в Соединенных Штатах в конце XX — в начале XXI века. И в этом отношении он по определению — еще раз — не мог иметь никакого мнения на сей счет. То есть таким образом, с точки зрения Уотмора, и здесь надо сказать, что он следует по следам собственных учителей из Кембриджской школы и прежде всего Квентина Скиннера, мы совершаем насилие над прошлым, навязывая прошлому точку зрения или перспективу, которая по определению у актора, у исторического деятеля отсутствовала. Монтескье не мог ничего думать по этому поводу. И в этом смысле, конечно, хочется сказать, что, как ты справедливо отметил, как педагогический прием это вполне работает. Это некоторое мыслительное упражнение… То есть это упражнение, которым мы можем заинтересовать, скажем так, людей, и мы Монтескье как бы приближаем к ним. Но при этом самого Монтескье мы тем самым не узнаём. Тогда, может быть, я все-таки спрошу, и вот давай заострим на этом внимание, почему все-таки… Ну то есть, казалось бы, если мы представим, что мы уже хорошо знаем Монтескье, мы изучили не только «О духе законов» и «Персидские письма», всё изучили, и переписку изучили частную, и изучили еще контекст, нельзя ли сказать, что вот такой глубокий специалист по Монтескье мог бы как бы вывести, логически вывести вот эту возможную позицию Монтескье по вопросу о сжигании флага или абортов, или всеобщего избирательного права?
Т. А.: Ну, кажется, что нет. Во всяком случае, ответ Уотмора на этот вопрос отрицательный. Нет — не потому, скажем, что мы плохо знаем политическую теорию Монтескье. По другой причине. Со времен Монтескье мир очень сильно изменился. И действительно довольно сложно предположить, что мыслитель, действовавший, так сказать, в некотором заданном ему историческом контексте, сказал бы о контексте совершенно ином. В этом-то в каком-то смысле и прелесть истории, что мы не можем навязать прошлому свою точку зрения… В известном смысле можем, но нарушая тем самым правила исторической интерпретации и становясь философами, и переставая быть историками. А другое дело… Ну то есть мы тогда философ на месте Монтескье. Мы становимся философом на месте Монтескье, но тем философом, которым Монтескье никогда не был, то есть он не попал в эту ситуацию, и в этом смысле тогда ну вот совсем, может быть, заостряющий вопрос: это значит, что нету возможности логически вывести позицию Монтескье по этому вопросу из того, что он написал ранее? Именно потому, что эта новая ситуация, она предполагала бы некоторую живую и свободную… Мы можем сказать слово «свобода». Он был бы свободен в том, чтобы сформировать какую-то точку зрения по этому вопросу. То есть мы не сомневаемся, что, если бы Монтескье вдруг оказался, переместился и посмотрел бы на Соединенные Штаты, он, наверно, бы быстро сориентировался и, может быть, бы составил какое-то мнение по этому вопросу. Не механически вывел свою новую позицию. Ну и в этом смысле возвращаясь, наверно, в настоящее и к каждому из нас… То есть мы методологически допускаем и как бы исходим из того, что каждый мыслитель, ну и даже обычный говорящий на языке и что-то думающий имеет в некоторой степени свободу. То есть мы не полностью замкнуты нашими какими-то доктринами или представлениями, которые, конечно, на нас влияют, но конкретная позиция по конкретному вопросу всегда есть в том числе некоторое решение, заданное и в том числе отчасти нашей какой-то позицией в этот момент, выбором, каким-то выбором, каким-то решением, а не механическим логическим выводом, как могло бы показаться. Если мы вроде бы философы и у нас у всех системы, такие железобетонные доктрины, то мы должны были бы выводить механически, так сказать, из них решения по всем вопросам. Но интеллектуальные историки хорошо знают, что никаких таких доктрин не существует. Это несмотря на то, что Гегель обещал как бы систему и доктрину, даже в Гегеле мы можем находить некоторое разнообразие, а не простой диалектический вывод из исходной посылки, ну а уж тем более в людях менее амбициозных и системных, чем Гегель, мы заведомо полагаем, что здесь нету такой предзаданной логики, а есть набор возможных решений, языков и позиций.
М. В.: Я бы мог добавить к тому, что ты сказал, совершенно справедливо, на мой взгляд, одну очень простую вещь. Дело все в том, что все вот эти теоретики, там, я не знаю, не важно, Монтескье, Гоббс, Локк, Платон, Аристотель, кто угодно, они формулировали свою теорию в ответ на определенные вызовы собственного времени, на определенную политическую ситуацию. Это живые люди, которые отзывались так или иначе на окружавшие их события. И, в общем, по большому счету, как раз здесь очень хорошо показать специфику интеллектуальной истории. Интеллектуальная история как раз занимается связью между политическими высказываниями, в данном случае политическими, не обязательно политические, но мы говорим о политической философии сейчас, и политической реальностью. Вот это очень важно. То есть, иначе говоря, интеллектуальный историк смотрит не только на то, что сказал политический философ, но и на те вопросы, на которые он пытался дать ответ. А эти вопросы, разумеется, проистекают исключительно из его собственного времени. И дальше, наверно, можно сказать в качестве безответственной или ответственной гипотезы, что вот вопросы, которые порождает политическая реальность, ставит в каждом конкретном случае, они-то как раз могут быть довольно, ну, если не сказать идентичными, но как минимум похожими в разные эпохи. Скажем, не знаю, вопросы демократии, вопросы о суверенитете, вопросы о диктатуре и так далее. А разумеется, ответы, которые даются разными философами, они даются в связи со спецификой их собственного времени. Но тем не менее то, как эти философы отвечают на их собственные вопросы, может дать нам некоторый ключ к пониманию наших собственных проблем. И вот в этом-то смысле как раз парадоксальным образом путь к сегодняшнему дню лежит через вот это самое непонимание, о котором ты говорил вначале, через реконструкцию исторического контекста тех вопросов, на которые отвечали политические философы. Они нам недоступны, но тем не менее мы можем отвечать для себя на похожие вопросы в другой ситуации. В этом смысле прошлое представляет из себя некий репертуар разных решений, принятых в разных контекстах, но зачастую на некоторый набор вопросов, который не теряет свою актуальность с течением времени. Ну или как минимум… Я не хочу сказать, что для древних греков и для нас это одни и те же вопросы. Разумеется, нет. Ну, если мы берем, не знаю, конец Нового времени и Новейшее время, то вот вероятность наличия таких вопросов, релевантных, важных до сих пор, конечно, довольно высока. Но в этом смысле, так сказать, любое сопоставление с настоящим лежит через понимание прошлого как другого, как иного, как незаданного, как неисчерпаемого в том смысле, что мы никогда не узнаем, что люди — на сто процентов — про себя думали. Но, попытавшись задать себе вопрос об ответах, мы, конечно, так сказать, мы приблизимся и к тому, что мы сами можем думать о тех вызовах времени, которые стоят перед нами сейчас. Потому что эти вызовы также сформированы нашим временем. Они не достались нам напрямую в наследство XIX или XVIII века. Тогда политический контекст имеет колоссальное совершенно значение, и мы сами очень хорошо это знаем по недавней истории. Одни и те же мысли, тезисы, утверждения до 24 февраля и после 24 февраля имеют разное значение. И это, мне кажется, существенно. И здесь как раз интеллектуальная история оказывается нам помощницей. И вот теперь, собственно, можно перейти ко второй цитате, которую мы подготовили, из предисловия Ричарда Уотмора к его книге «Что такое интеллектуальная история?», которая выйдет в «Новом литературном обозрении» в самое ближайшее время, и теперь можно ее прочитать, и затем мы хотели бы ее прокомментировать.
Т. А.: Да. Здесь на самом деле… Хорошо здесь подходит вопрос, потому что надпись вот этими пятиметровыми буквами в скале, в граните, она призывает к тому, чтобы ее интерпретировать, за счет своего размера и размаха. При этом мы предполагаем, что это был каменщик, человек относительно простой, хотя и квалифицированный рабочий. Значит, чтобы понять… Если мы обратимся к непосредственно надписи, то мы не вполне ее можем вот с ходу понять. Находясь — вот как раз мы говорили про презумпцию непонимания — а мы можем скорее здесь угадывать. «Восемьсот миллионов фунтов национального долга! Боже, спаси мою страну!» Вероятно, здесь речь идет о некотором беспокойстве по поводу национального долга, но на самом деле неожиданно, с чего бы этот каменщик, значит, так беспокоился по этому поводу. И дальше идут имена, ну, очевидно, политических деятелей. Речь идет про войну и дальше генералов, то есть мы здесь можем угадывать, конечно, некоторый ассоциативный ряд. Речь идет про деньги, войну и политиков и военных. Как здесь наглядно ясно, само высказывание не сводится к непосредственному значению этих нескольких фраз. Сами фразы, очевидно, скрывают или раскрывают некоторые намерения, которые высказаны автором через эти восклицания. Значит, мы, ну, собственно, вот, следуя Уотмору, может быть, мы оставим читателям более внимательно ознакомиться со всеми такими нюансами этих высказываний, но здесь самое, наверно, важное, с чего мы можем начать анализ, — это указание, собственно, «Боже, спаси мою страну» — оказывается, что это цитата, которая отсылает к эпитафии Александра Поупа, который, значит, в свою очередь ссылается на более раннее высказывание. В частности, Уотмор цитирует отца Паоло Сарпи, венецианского историка, который на смертном одре сказал: «Да пребудет она в веках». «Она» — имеется в виду страна. То есть вот эта самая Серениссима, Венеция, тишайшая республика, которая, значит, тоже воспринималась как, значит, с одной стороны, ей желает автор благоденствия и долгих лет, но при этом, очевидно, беспокоится и выражает некоторое беспокойство по этому поводу. И, значит, первый контекст. Мы видим, что с большой вероятностью на самом деле был довольно образованный человек, который использует выражение, уже имеющее некоторую историю. Само выражение, следующее выражение: «Деньги — мускулы войны», — обсуждалось такими выдающимися мыслителями, с которыми, вероятно, был знаком наш герой, как Никколо Макиавелли, Фрэнсис Бэкон, и можно даже еще раньше найти его утверждение в одной из филиппик Цицерона. И эта, в общем, траектория, вполне сама вот эта траектория — от Цицерона через Макиавелли к Бэкону или другим современным авторам, она, в общем, характерная, характерная траектория для интеллектуальных историков, изучающих, собственно, вот XVIII век, XVIII — XIX век английский, когда классическое античное наследие воспроизводилось в раннее Новое время и затем, значит, уже через призму итальянских мыслителей попадало и интерпретировалось в Англии. Вот это самое утверждение о том, что деньги — это мускулы войны, было тогда классическим высказыванием, которое — уже теперь мы перемещаемся в более близкий контекст, непосредственный контекст, значит, первой половины XIX века, а именно беспокойства, которое многие современники выражали по поводу размера так называемого публичного кредита. На самом деле речь идет о кредите, который брал, значит, Банк Англии. Для чего? Он брал эти деньги для финансирования войны. Значит, собственно, зачем, почему нам важно знать про этот публичный кредит и связь с войной — потому что это было на самом деле то, что называется тропом, то есть, в общем, предметом постоянной рефлексии и беспокойства англичан как в XVIII, так и в первой половине XIX века, которые ожидали — и сейчас это особенно любопытно узнать — которые ожидали скорейшего падения Британской империи, которая в тот момент восходила и находилась, в общем, так сказать, накануне своего зенита. Если мы теперь… Вот здесь тоже еще один интересный способ интеллектуальной истории смотреть на вещи. Мы хотим смотреть на мир глазами людей того времени. Если мы будем смотреть на мир нашими глазами, мы будем говорить: вот, Великобритания, значит, она в расцвете сил, она полна, наверно, сознания собственного могущества и величия. А Великобритания в этот период полна ужаса ожидания скорого банкротства, разорения, и это был, еще раз, постоянный троп, предмет постоянного беспокойства. И, собственно, каменщик присоединяется к этому апокалиптическому ужасу, который в данном случае сочетает собой так называемые республиканские мотивы, а именно подозрение к Центральному банку в коммерческой деятельности, которая разрушает нравы и в данном случае ведет к избыточной военной активности. Таким образом, если мы попытаемся вернуться к вопросу, что пытался сказать автор, ответ: автор на самом деле высказывал беспокойство по поводу избыточной закредитованности Банка Англии, которая порождает бесконечные войны. И в этом смысле перед нами некоторый род такого антивоенного манифеста, который был размещен на стене, и сегодня мы осторожно сравнили бы, наверно, его, опять-таки очень осторожно высказывая эту аналогию, с Фейсбуком или с какой-то социальной сетью, ВКонтакте, тоже некие стены, на которых мы пишем высказывания, обращаясь к неопределенному кругу людей. Соответственно, автор протестовал или предостерегал современников против избыточной военной деятельности и избыточного кредита. Оплакивал действия военачальников, которыми он, очевидно, был недоволен, поскольку вот они вовлекали Англию на путь такого, значит, упадка. Опять-таки сегодня мы можем сопоставить и увидеть гораздо более сложную картину того, что происходило в Англии в этот период, что это сознание могущества, в общем, во всяком случае, в широких слоях образованного населения совершенно не сопровождало реальный рост могущества Англии.
М. В.: Ну, тогда перейдем ко второму вопросу. Почему он, то есть автор, выбрал именно такой способ самовыражения? Я бы сказал, что, по-видимому, здесь мы имеем дело с как раз языковой перспективой, к которой возвращает нас Ричард Уотмор. Дело все в том, что — и это отчасти уже понятно из того описания конкретного кейса, которое дал Тимур только что, — в распоряжении автора, в данном случае каменотеса, который творит вот эти надписи, краткие, но выразительные, на больших плитах, существует некоторый набор политических аргументов. Опять-таки мы возвращаемся к вопросу о языковой реальности. Он существует внутри собственной языковой реальности, которая, с одной стороны, подсказывает ему некоторые решения. Политический язык или политические языки во множественном числе диктуют аргументы, понятия, слова, которые может использовать человек для того, чтобы выразить свою политическую точку зрения. Однако это не односторонний процесс влияния языка или языков на человека. Индивид способен трансформировать политический язык, использовать разные политические языки одновременно, сопоставлять разную реальность, не знаю, например, один тип повествования, к которому принадлежит политическая философия, а другой, скажем, который имеет литературное происхождение, а таким образом наращивать смыслы. И в этом случае, разумеется, перед нами такой амбивалентный, двойственный процесс, с одной стороны, влияния языка на мышление человека, а с другой стороны, попытки человека найти собственное место в языковой реальности и трансформировать, изменить ее, создать новое правило политического высказывания, которое может быть воспринято в будущем.
Т. А.: Мы можем добавить еще, что здесь, вот в контексте предыдущих фраз, которые мы тоже видели, здесь, получается, либо сам каменотес, либо его коллеги, они увековечивали и хвалили других знаменитостей, но также и подчеркивали важность строителей дорог и тех, кто финансировал местные школы, и противопоставляли этому, как мы видим, избыточный кредит, который идет на войну. В этом смысле мы видим выбор. У автора остается позиция, и эта позиция — это его позиция, и мы понимаем, вполне можем реконструировать язык, на котором, скорее всего, можно было бы поддерживать войну, в частности, например, опять-таки поддерживать величие Британской империи, важность ее заморских колоний и так далее. И наверняка были такие дискурсы. Эти дискурсы тоже можно изучать, но в данном случае конкретный человек, выбирая, занимая свою позицию, выбирает язык, и внутри этого языка этот каменотес, наверно, был не самым оригинальным мыслителем — он скорее воспроизводит троп, хотя и собирает собственный как бы вариант «Лего», так сказать, — а какой-то более оригинальный мыслитель может, естественно, предлагать какие-то новые ходы, сочетая узнаваемые и известные выражения с какими-то новыми смыслами или даже новыми понятиями, которые он добавляет.
М. В.: Вот мне кажется, что ты прекрасно ответил на следующий вопрос Уотмора: почему автор выбрал именно такой способ выражения. Здесь важно, чтобы существовали другие способы выражения. Интересно поразмышлять над тем, почему именно этот конкретный человек, именно этот конкретный автор, исторически, так сказать, реконструируемый, почему он остановил свой выбор именно на данной языковой парадигме. Следующие два вопроса, последние, которыми, еще раз напомню, задается интеллектуальный историк, который видит определенный тип источников, в данном случае надписи на плитах: каким было происхождение аргументов автора и какой они встречали отклик? По поводу происхождения — здесь оказывается, что все-таки вот генеалогии интеллектуальные для интеллектуальных историков важны. Иначе говоря, когда мы говорим о аргументах, так сказать, политических, социальных, экономических, литературных, философских, не важно, каких, историографических, всегда все-таки важно понять, к каким источникам восходит то или иное утверждение. Это не вопрос о влиянии, здесь очень важно. Это не вопрос «А повлиял на B, B повлиял на C, C повлиял на D» и так далее. Это вопрос о том, какие политические концепции, в данном случае политические концепции, актуальны в данную эпоху в данном обществе. Мне кажется, что историк генезиса тех или иных политических аргументов…
Т. А.: Да, и вот мы тут можем только предполагать, у нас здесь нету специальных данных об этом каменщике, но мы предполагаем, что, очевидно, он говорит и использует характерный язык, в частности такой неореспубликанский, элементы неореспубликанской критики общественного кредита, и откуда он берется, почему он его выбирает — с большой вероятностью он читал какие-то памфлеты, трактаты или газеты, в которых содержатся такие аргументы, и специалист по первой половине XIX века Англии с легкостью воспроизведет те пассажи, которые встречались у журналистов, эссеистов, политиков того времени, поскольку мы говорим об Англии — стране с парламентом, действующим к тому времени уже больше ста пятидесяти лет практически, то есть в этом смысле постоянно действующий такой делиберативный орган, где люди обмениваются аргументами, ссылаются, критикуют друг друга, при этом критикуют жестко, и здесь мы, очевидно, видим некоторую партийную принадлежность этого каменщика, и мы могли бы реконструировать ту партию, к которой он принадлежит.
М. В.: Последний аргумент, которым занимаются интеллектуальные историки, по мнению Уотмора, — это вопрос об отклике. Как мы более научным языком сказали бы, вопрос о рецепции, вопрос о том, как воспринимались политические высказывания в разных поколениях. Здесь речь идет о том, что каждое поколение читает, возможно, некий близкий набор текстов и реагирует на него определенным образом. И мне кажется, что эта как раз часть интеллектуальной истории, она не менее любопытна, и она также поддается историзации. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что, когда некоторый текст запущен в культуру, он не то что бы раз и навсегда обретает заданное число значений — нет, текст прочитывается разными поколениями читателей в разных политических обстоятельствах, и он может свидетельствовать о разных явлениях, и он может иметь разные значения. И это, по-моему, самое интересное, пожалуй: когда один и тот же текст может одновременно и быть неореспубликанским, может быть, не знаю, наоборот, консервативным, а может быть революционным — в зависимости от того контекста, в котором его читают. И здесь как раз, мне кажется, это такой важнейший второй элемент интеллектуальной истории. Категория «читатель» не менее важна, чем категория «автор». Другое дело, что и автор, и читатель являются фигурами историческими. В отношении каждого из них необходимо, вот как мы говорили вначале, выдвигать гипотезы и объяснять их реакции на те или иные тексты, собственно, той же самой связью между вызовом и ответом на вызов, который порожден историко-политической ситуацией. В этом смысле можно построить… Ну, я не думаю, что в данном случае, когда речь идет о малоизвестных, в сущности, надписях. Но, не знаю, можно взять «Государя» Макиавелли…
Т. А.: Может быть, мы приведем примеры и перебросим мостик уже в завершении нашего подкаста к нашему следующему подкасту. Буквально приблизительно в это же время… Тут говорится — в 1835 — 1837 году — приблизительно в это же время в России было опубликовано небезызвестное, даже известное многим первое «Философическое письмо» Петра Яковлевича Чаадаева. Мы вот, так сказать, поговорим, я надеюсь, в следующий раз о твоей книге, посвященной этому событию, его рецепциях, рецепции и разных как бы зеркалах, в которых отражался и отразился этот текст, и какие механики он затронул, которые в итоге привели к объявлению Чаадаева сумасшедшим, его некоторой относительной изоляции. Вот здесь тоже, если ты можешь рассказать, как вот как раз здесь возникает разница между контекстом, в котором мыслитель пишет, и контекстом, в котором текст впервые публикуется и становится достоянием общественности, и оказывается, что вот эта разница, она работает уже даже в пределах, там, условно, одного десятилетия, уже не говоря о том, что происходит с контекстом, когда мы читаем Платона через две с половиной тысячи лет.
М. В.: Спасибо огромное за этот пример. Если кратко, речь идет о том, что в тот момент, когда Чаадаев в 1829 году пишет первое «Философическое письмо», он ламентирует, он сокрушается в связи с утраченными перспективами «Священного союза». В известном смысле первое «Философическое письмо» — это текст, который относится к александровской эпохе. Пишет он в контексте русско-турецкой войны 1828 — 1829 годов, и это чрезвычайно грустное размышление человека, который надеялся на то, что Россия может пойти по католическому, западному пути, и по итогам войны 1828 — 1829 годов становится окончательно понятно, что Россия идет путем изоляционизма. И это, безусловно, так сказать, одна ситуация. В 1836 году, когда публикуется текст, он оказывается репликой на уваровскую идеологию. И он оказывается действительно в известном смысле революционным, хотя Герцен, интерпретируя его таким образом, сильно приукрасил как минимум намерения Чаадаева. Чаадаев, так сказать, — это сложный вопрос, но уж совершать революцию в 1836 году он, безусловно, не хотел. Но очень важно, что между моментом написания и моментом публикации текста происходят политические события огромной важности. Формируется официальная доктрина имперского национализма. А раз так, то первое «Философическое письмо» становится репликой как раз на эту доктрину. То, чего в 1829 году Чаадаев не мог по определению предполагать. Таким образом, в зависимости от контекста, в зависимости от времени прочтения у нас всегда меняется реакция. Какую бы книгу мы ни читали в двадцать лет и в сорок лет, приведу более банальный пример, мы ее будем читать по-разному — не потому, что изменилась книга, а потому, что изменились мы сами и изменился мир вокруг нас, и вот эти изменения мира и пытается интеллектуальная история уловить, описать и интерпретировать.
Т. А.: Получается, что интеллектуальный историк попытается схватить каждую эту встречу по отдельности в идеале. В пределе прочтения «Войны и мира», значит, в семнадцать лет, это будет, например, там, реконструированная по дневниковым записям школьника, это будет одна история, и мы ее можем восстановить, ту самую реальность, которая возникла в голове читателя, школьницы или школьника, и, если это, там, взрослая женщина сорока лет, которая будет перечитывать этот роман, мы тоже сможем восстановить ее. Это будет две разных встречи. При этом мы понимаем, естественно, что «Война и мир» в некотором смысле остается идентична сама себе, но каждая ее новая встреча может быть задокументирована как отдельный акт, который задается, естественно, двумя сторонами, а не только одной стороной, то есть автором исходного текста.
М. В.: Разумеется. Вот как раз на все эти вопросы и массу других вопросов отвечает книга Уотмора «Что такое интеллектуальная история?», которую, я надеюсь, все мы сможем прочесть в ближайшее время в русском переводе и порассуждать как раз о том, зачем нужна интеллектуальная история и нужна ли она вообще или, может быть, совсем не нужна. Нет, ну наш-то ответ, конечно, в том, что интеллектуальная история — важнейший инструмент, с помощью которого мы можем понять самого себя. Понимая другого — именно другого в его автономии, мы тем самым можем лучше понять самих себя.
Т. А.: Ну и это на самом деле, наверное, именно предмет или, там, дисциплина, которой изучается один из важнейших пластов реальности как таковой, общественной, социальной реальности, а именно то, что люди переживают, то, что люди думают, тот смысл, который они приписывают ситуации. Ну и вот мы, там, приблизились к тому, как видели англичане Великобританию начала XIX века. Это совершенно невозможно, восстановить эту реальность невозможно никаким образом, кроме как с помощью вот такого анализа. И при этом, по-моему, очевидно, что это состояние, это ощущение и есть часть истории, это и есть история, то есть то, что происходило. И таким же образом, естественно, это касается и множества любых других сюжетов и периодов, включая нашу собственную жизнь. Наша жизнь — это те переживания, те смыслы прежде всего, которые мы приписываем, и как бы объективировать наши переживания, нашу жизнь, наши смыслы в пользу, я не знаю, метров, километров, там, рублей или других факторов — это просто терять важнейший элемент того, что такое на самом деле человеческая жизнь.
М. В.: Мне кажется, это прекрасное завершение подкаста. Спасибо огромное. Всем счастливо.