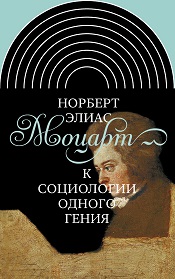К социологии гения. Норберт Элиас о Моцарте

Подкаст ведут: Тимур Атнашев, Михаил Велижев.
В гостях: Кирилл Левинсон.
В этом выпуске подкаста «Умные книги» ведущие Тимур Атнашев и Михаил Велижев обсуждают с историком и переводчиком Кириллом Левинсоном книгу Норберта Элиаса «Моцарт. К социологии одного гения».


.jpg)
- 00:00:36 Представление гостя
- 00:01:25 О научном творчестве Норберта Элиаса
- 00:06:13 Концепция придворного общества Элиаса
- 00:13:35 Книга о Моцарте
- 00:17:20 О переводческой стратегии и сложностях перевода
- 00:30:07 «Моцарт был аутсайдером»
- 00:36:33 О гении в понимании Элиаса
- 00:41:42 О «художественной совести» и других концептах Элиаса
- 00:52:14 Последователи и критики Элиаса
→ Читать полностью
Тимур Атнашев:
Добрый день! В эфире подкаст «Умные книги». Это разговор о книгах, которые
открывают нам, как и что думали люди в прошлом. Ведущие подкаста — историки
Михаил Велижев и Тимур Атнашев, редакторы серии «Интеллектуальная история» в
издательстве «НЛО». Иногда мы ведем подкаст вдвоем, но мы стараемся приглашать
гостей, как это мы сделали в этот раз, и сегодня мы будем обсуждать нашу книгу,
вышедшую в издательстве «Новое литературное обозрение», с одним из главных
действующих лиц — ее переводчиком Кириллом Левинсоном. Один из, наверное,
лучших переводчиков с немецкого и историк-специалист. Переводчик-историк.
Кирилл, спасибо, что согласились прийти к нам в гости и поговорить об этой
необычной книге. Напомню, что книга называется «Моцарт. К социологии одного
гения», и ее перевод с немецкого, как это часто бывает в принципе, представлял
особенный интерес, и мы поговорим, естественно, об Элиасе в целом, о его
творчестве, и более специфически — о сюжетах, главных сюжетах, этой книги и о
некоторых, наверно, нюансах и особенностях перевода. Кирилл, спасибо, что
пришел.
Кирилл Левинсон: Добрый день всем! Спасибо большое за приглашение к этому разговору.
Т. А.: Ну, тогда, наверно, начнем с общего такого абриса того, что делал Элиас как историк и социолог. Это, наверно, одна из наиболее влиятельных фигур интеллектуальной истории в широком смысле. И, Михаил, наверно, ты как автор работ по Элиасу сможешь по возможности нас ввести в этот сюжет.
М. В.: Да, хорошо. Норберт Элиас, на мой взгляд, является одним из самых интересных и продуктивных социологов и историков культуры одновременно XX века. Судьба его довольно примечательна. Ну, во-первых, он прожил почти сто лет. Это довольно существенно. И за эти сто лет его репутация претерпевала, разумеется, изменения. Дело все в том, что Элиас — это классический случай социолога, ученого, мировая известность к которому пришла довольно поздно, а именно: в тот момент, когда его работы, классические работы, известные в том числе и русскому читателю, в частности, по переводам Кирилла Левинсона, они были переведены на английский и французский языки. И в этом смысле, так сказать, существует две истории Элиаса. Первая — это немецкая история, которая берет начало в 1930-х годах, и вторая часть истории — это история европейская или, если угодно, мировая, которая начинается с конца 1960-х и, так сказать, длится до сих пор. Эта история связана с переводами, как я сказал, и в этом смысле это еще один предмет разговора, довольно важный. Что написал Элиас? Элиас написал, в общем, довольно много книг, но самые важные и известные, в частности, и в России, — это его работы о цивилизации и о придворном обществе. И в этом смысле книжка о Моцарте, она, по большому счету, вписывается как бы в оба больших проекта. А книга, которая называется «О процессе цивилизации», двухтомник действительно поразительной глубины, почему — я сейчас скажу, а с другой стороны, книга, которая называется «Придворное общество», которая действительно стала классической для историков, которые занимаются Европой Нового времени, ну и которая критиковалась довольно много и, на мой взгляд, не всегда оправданно. И сейчас опять-таки я два слова об этом скажу. Что касается «Процесса цивилизации», то действительно вклад Элиаса в цивилизационную теорию XX века огромен. В чем заключается основное достоинство его проекта? Дело все в том, и это меня, во всяком случае, как читателя Элиаса всегда впечатляло, — Элиас совершил продуктивный методологический трансфер: он связал воедино науки, которые обыкновенно находятся как бы совершенно в разных пространствах. С одной стороны, это история, с другой стороны, это социология, и, с третьей стороны, это психология. Психология, внутренний мир человека и социальное поведение человека в концепции Элиаса оказались неразрывно связаны. Они предопределяют друг друга, и это мы прекрасно увидим и сегодня, так сказать, обсуждая книгу о Моцарте. А историки науки отмечают, что вот этот, как мы бы сейчас сказали, междисциплинарный характер работ Элиаса, он обязан во многом характером особой атмосфере, которая сложилась в 1920-е — 1930-е годы в университете Франкфурта-на-Майне в Германии, в котором Элиас работал помощником известнейшего социолога, историка культуры Карла Мангейма, специалиста по утопии, по идеологии. Эти важнейшие фигуры гуманитарных и общественных наук XX века. Особенность франкфуртского академического пространства состояла в том, что там была относительная свобода от традиционных методологических рамок и теоретических предпочтений, которые были свойственны немецкому ученому сообществу в то время. Дело все в том, что во Франкфурте сосуществовали и взаимодействовали представители самых разных дисциплин, прежде всего марксистской социологии и философии — здесь нужно упомянуть Хоркхаймера и Адорно, а с другой стороны, психоанализа, связанного в данном случае с именем Фромма. И вот в этой перспективе вот эти концептуальные инновации Элиаса, который совмещает разные науки, они не кажутся, может быть, настолько случайными.
Еще одной чертой проекта междисциплинарного Элиаса является соотнесение цивилизации как длительного процесса формирования человеческого «я» с микроконтекстом социальных практик европейской придворной аристократии. И мы здесь переходим уже к вопросу о придворном обществе. И в этом смысле, конечно, Элиас, если угодно, предвосхитил время. Он попытался связать микро- и макроуровни анализа, повседневную жизнь европейских дворян Нового времени, их функции в придворном обществе, их психологию, их социальные навыки, с одной стороны, а с другой стороны, формирование централизованных монархий, как бы два разных уровня. И в этом смысле Элиас фактически поставил проблему масштаба исследования и характера обобщения в гуманитарных науках, который станет предметом интенсивной полемики на рубеже 1970-х — 1980-х годов между сторонниками микро- и макроисторических подходов в Европе. И в этом смысле Элиас, которого переводят и осваивают в 1970-е годы, оказывается страшно актуален.
Т. А.: Давайте, может быть, тогда, собственно, перейдем к нашему основному сюжету. Мы еще будем возвращаться, наверно, к общей концепции Элиаса уже в связи с текстом о Моцарте. Кирилл, скажи, вот ты мог бы про концепцию придворного общества у Элиаса кратко, или не очень тебе сподручно?
К. Л.: Я? Ну, да.
Т. А.: В двух словах.
К. Л.: В двух словах, может быть, хуже, чем…
Т. А.: Кирилл, если можно вас попросить, может быть, несколько слов добавить к общей концепции Элиаса, к книге, в переводе которой вы также принимали участие или, по-моему, в научной редактуре и частично переводе. Это, собственно, книга, которую Михаил упомянул, «Придворное общество». Какие, может быть, основные сюжеты, темы в ней можно обозначить для читателей и наших слушателей, которые, может быть, не читали, не знакомы с этой книгой?
К. Л.: Ну, я в самых кратких и общих словах только скажу, что на материале французского двора времен Людовика XIV, это исследование показывает, как двор функционировал в качестве очень жестко, очень строго выстроенной системы, которую Элиас описывает с помощью термина «фигурация». Тут я опять должен признать, что в то время, когда мы работали над переводом этой книги, у нас в России такой термин еще был малоизвестен, и мы даже пытались как-то избежать его использования, потому что думали, что он будет непонятен нашему читателю, и заменяли его всяческими другими. «Фигурация» — в каком-то смысле да, можно это сравнить с понятием системы, когда имеется некоторый набор элементов и связей между ними и эти элементы ведут себя очень определенным образом в зависимости от своей позиции в этой фигурации. В зависимости от того, какую роль они в ней играют, их поведение очень строго предписано, и, вопреки тому, что можно было бы подумать, что высокое социальное положение человека давало ему большую свободу, на самом деле нет. Как утверждает Элиас, роли, которые были строго расписаны среди придворных, нормы поведения и даже нормы отклоняющегося поведения — всё это было очень-очень жестко закреплено, и отступление от этих правил грозило человеку большими потерями, и при этом нигде не было таких писаных правил, которые бы можно было соблюдать или нарушать и карать за их нарушение. Это всё был такой этикет, всё были традиции, всё были какие-то негласные конвенции, которые нужно было знать, а чтобы их знать, нужно было быть придворным, а чтобы быть придворным, нужно было их соблюдать. Эта жизнь, придворная жизнь, она включала в себя не только высших сановников государства, но даже и прислугу, которая в Версале составляла значительную часть населения не только дворца, но и окружающих его улиц, и всё это были люди, которые, вопреки опять же тому, что можно было бы подумать, вовсе не проводили бо́льшую часть своей жизни в каких-то наслаждениях, удовольствиях и так далее. Да, они, может быть, не занимались физическим трудом или чем-то таким, но на самом деле даже те развлечения, в которых они должны были принимать участие, — это всё было абсолютно строго обязательно, это была, так сказать, тяжелая, важная, ответственная работа, в которой тоже нельзя было допустить ни малейшей ошибки, и при этом интриги, постоянные попытки кого-то обойти, кого-то вытеснить, кого-то выставить в глазах монарха в нужном свете — это было, так сказать, частью этой работы. Такого рода исследования, насколько мне известно, не проводились применительно к другим монаршим дворам Европы, хотя, повторяю, я просто их не знаю. Может быть, они существуют. И Элиас, когда писал о придворном обществе, он, вероятно, был одним из первых, кто подошел к этому действительно социологически, а не чисто бытописательски.
М. В.: Я бы мог добавить два слова буквально к тому, что совершенно справедливо сказал Кирилл. Здесь очень важно понимать, как психология связана со становлением придворного общества — для того, чтобы достроить вот этот междисциплинарный корпус концепции Элиаса. Дело все в том, что Элиас предположил, что возникновение придворного общества связано с практикой, которая всем нам хорошо известна по нашей повседневной жизни, а именно: с самоограничением. Каждый из нас знает, что в ряде ситуаций, когда происходит нечто, что нам очень не нравится, нам очень хочется крепко выругаться. По какой-то причине мы этого не делаем.
Т. А.: Так ли уж мы этого не делаем? Не все из нас прошли процесс цивилизации.
М. В.: Нет, ну сами с собой мы можем это сделать, но как только появляется другой, как только появляется общество в настоящем смысле слова, мы начинаем себя ограничивать, потому что мы знаем, что, например, в определенных компаниях или в определенных ситуациях ругаться плохо, нельзя. У нас будет плохая репутация. Элиас, собственно, и исследует этот процесс. Он говорит очень простую вещь. Он говорит, что изначально подобного рода самоограничения вводились сверху, монархом. И придворные подчинялись этому, потому что вся их жизнь, всё их положение зависят от монарха, который распределяет блага. И это было результатом давления извне. Но по мере формирования придворного общества давление извне стало внутренним императивом. Грубо говоря, то, что раньше делалось по указке сверху, только потому, что приказывали, в какой-то момент исторический, в Новое время, то есть вот в этом самом XVII — XVIII веках, становится просто некоторым чувством внутренним человека, частью психологии.
Т. А.: То есть происходит интериоризация нормы.
М. В.: Да. Научно — да, интериоризация норм, научно выражаясь, когда то, что изначально было, если угодно, навязано человеку сверху, стало частью его собственной психологии. И опять-таки этот пример прекрасно каждому из нас знаком. И дальше, собственно, Элиас говорит, что вся придворная культура базировалась как раз на вот этом искусстве контролировать себя. Потому что это действительно так. Придворное общество и положение придворного при дворе зависят от его хладнокровия, от того, в какой степени он вот в этих придворных интригах, а мы говорим об этом с некоторым таким, может быть, с некоторой иронией, с презрением… На самом деле придворная интрига, а она была всегда во власти, и она остается до сих пор актуальной, — это инструмент борьбы за власть, такой же, как и все остальные. Ничем не лучше и не хуже. В этой борьбе единственный способ выиграть — это контролировать себя, наблюдать за остальными и просчитывать ходы вперед, иметь способность предугадать.
Т. А.: То есть происходит какая-то рационализация, получается, да?
М. В.: Да. Происходит рационализация, и происходит, главное, действительно самоограничение. Вот это очень важно: не терять хладнокровия. Опять-таки это мы очень хорошо знаем по собственному опыту. Поскольку очень часто мы знаем, что человек вспыльчивый в обществе более уязвим, потому что, так сказать, если в процессе дискуссии, обмена аргументами между оппонентами, один из них начинает кричать, понятно, что дальше, так сказать, что бы он ни говорил, он будет, скорее всего, виноват в нарушении коммуникации. И вот здесь, переходя к Моцарту уже, как раз речь идет, если угодно, о — это важнейший термин для Элиаса в книге о Моцарте — о сублимации, которая чрезвычайно связана как раз с идеей самоограничения придворного общества и с тем, что Моцарт совершенно не… По своему психологическому складу был достаточно далек от той фигурации, в которой он вынужден был находиться. И здесь, наверно, правильно рассказать уже, собственно, перейти к книге о Моцарте, рассказать о концепции Элиаса. Тимур, может, ты скажешь что-то, потому что мы с Кириллом как-то, значит, это самое...
Т. А.: Да, ну я могу несколько слов сказать про, наверно, основные сюжеты просто, и, соответственно, можем, может быть, встречно, так сказать, позадавать вопросы или обменяться какими-то впечатлениями. Ну, собственно, книга называется… Значит, вот если точно цитировать вот, так сказать, расшифровку названия, это «К социологии одного гения», то есть как бы Элиас указывает на некоторый предуведомительный, так сказать, подготовительный характер своей работы, и про это тоже, наверно, важно упомянуть, что работа незаконченная, была не закончена самим автором. Собственно, это последняя, наверно, из его работ, изданная посмертно. И, соответственно, текст в целом посвящен, ну, как и следует из названия, собственно, такой необычной и виртуозной, мне кажется, попытке с помощью вот такого социологического аппарата и с помощью анализа исторической динамики предложить два уровня, наверное, можно сказать, анализа. Собственно, Михаил уже говорил в целом о том, что Элиас работает на уровне психологии, социологии и исторической динамики, и в данном случае здесь все эти ингредиенты присутствуют. Ну вот если так два больших сюжета выделять, то есть, наверно, один большой сюжет — это то, как он анализирует переход от придворной музыкальной культуры и то, что он называет «ремеслом», то есть придворные музыканты, которые по всей Европе создают свои произведения для своих, значит, патронов и, соответственно, исполняют их при дворе. И от этой структуры происходит медленный и сложный, драматический для Моцарта, переход к рынку, когда основным потребителем и источником финансирования на самом деле у художников, музыкантов в данном случае, становится рынок, то есть буржуазия, которая, значит, готова платить либо за ноты, покупая ноты, либо за прослушивание произведений во время их исполнения, и вот этот переход от придворной культуры к культуре рынка — это тот большой исторический процесс, который фиксирует Элиас. И Моцарт попадает как бы в стык, в этот переход, который вот неровный, длинный, сложный. Какие-то черты в его поведении, которые идентифицирует Элиас, они как раз свидетельствуют о том, что он уже человек такой буржуазной творческой культуры, а при этом в реальности этот контекст еще не вполне сложился, и чисто экономически оказывается невозможным для Моцарта выживать в качестве так называемого свободного художника на рынке. Это вот ну как бы одна большая история. А вторая большая история, она параллельная, и она тоже имеет, наверно, прямую связь вот с тем процессом цивилизации самоконтроля и вот с понятием сублимации, — это вопрос о творчестве, о природе творчества, и Элиас предлагает, в общем, на мой взгляд, во всяком случае, чрезвычайно оригинальную такую и красивую, элегантную модель творчества как такового, опираясь на психоанализ, и здесь вот неожиданно мы, так сказать, добавляем не просто психологию, а психоанализ, включая некоторые, соответственно, представления о бессознательном. И, значит, вот это вот два таких элемента: откуда берется гений, как он возникает, что это такое, и здесь, в общем, Элиас достигает некоторой строгости, во всяком случае, в самой формулировке, и, соответственно, история с переходом, значит, от придворной культуры к рынку. Наверно, это два общих сюжета. Мы о них поговорим. Наверное, я бы тогда обратился к Кириллу с вопросом о сложностях перевода, трудностях перевода… Было, кажется, кино у нас, и это, в общем, известный, важнейший сюжет. Ты уже упомянул понятие фигурации. Я, например, об него споткнулся, когда читал первый раз первую редакцию перевода. Сначала думал, что ошибка. Начал как-то исправлять. Значит, потом, ну, в общем, осознал, значит, что я что-то пропустил. Ну и в целом, скажем, свыкся с этим словом. Ну, здесь, наверно, не только это слово. Я просто еще, может быть, проброшу, спрошу, и мы, по-моему, даже обсуждали… Мне очень понравился и показался интересным перевод «художественная совесть», и может быть, еще есть какие-то примеры таких вот важных, центральных понятий, которые было сложно переводить. Ну и в целом, наверное, как бы ты оценил то, что получилось сделать, и какие были препятствия, так сказать, которые, собственно, ты переходил в качестве переводчика?
К. Л.: Надо сказать, что я когда работал над переводом этой книги, не придерживался тех же принципов, которых придерживались мы когда-то давным-давно при работе над редактированием перевода книги о придворном обществе, то есть тут преемственности нет, и в этом случае действительно понятие «фигурация» переведено именно так вот, как термин, введенный Элиасом и имеющий свое определение.
Т. А.: Это термин Элиаса, то есть это и в немецком тоже неологизм?
К. Л.: Я не берусь сказать, был ли Элиас первым, кто этот термин ввел, но я полагаю, что в русском языке, помимо Элиаса, другие авторы, будь то отечественные или переводные, этого термина не используют, поэтому если мы встречаемся с термином «фигурация», то, скорее всего, это именно вот в этих книгах Норберта Элиаса. Я могу ошибаться, но мне кажется, что дальше этот термин не пошел — у нас, по крайней мере. Что касается языка этой книги и ее понятийного, так сказать, строя, тут, конечно, возникают всякий раз сомнения, имеем ли мы дело с выбором слов или формулировками, которые принадлежат самому Элиасу, или же перед нами выбор или отбор, осуществленный его публикатором. Потому что, как вы правильно сказали, эту книгу не написал сам Норберт Элиас от начала до конца. Он готовил материалы для большого труда о Моцарте на протяжении многих-многих лет, но так и не превратил их в какой-то единый текст. И вот, когда он уже был совсем пожилым человеком, его ученик, коллега, друг, переводчик, издатель на немецком языке его трудов Михаэль Шрётер взял на себя работу по отбору материала из архива, из рукописей мэтра, чтобы все-таки этот текст о Моцарте издать отдельной книгой. И Норберт Элиас дал свое согласие на это, но никак не участвовал в работе. Он уже был к тому времени совсем пожилым человеком и не дожил до выхода книги в свет. Так что перед нами такая вот фактически совместная работа Элиаса и Шрётера. Причем в тексте не помечено, где Элиас, а где Шрётер, что там вычеркнуто, что заменено, что дописано.
Т. А.: А Шрётер, возможно, что-то дописывал? То есть не просто собирал, а именно дописывал?
К. Л.: Да. Мы не знаем, как он вторгался в текст, но в послесловии редактора той серии, в которой вышла эта книга на немецком языке, есть такой момент: там он пишет, что при сравнении с рукописью видно, что вмешательство Шрётера было значительным в том, что касается языка, и опять же не обозначено, в каких местах это значительное вмешательство имело место. Поэтому я чувствовал себя в известной мере свободным. Я считал, что мое дело — донести до русского читателя смысл сказанного, не чувствовал себя обязанным сохранять какой-то авторский, так сказать, стиль, слог и так далее, потому что неизвестно, насколько он авторский. И моя задача была в том, чтобы текст хорошо и понятно выглядел по-русски. Не знаю, насколько это удалось. Судить читателям. Но я принимал к этому все возможные меры. И при этом, конечно, многим я жертвовал. Конечно, какие-то особенности оригинала пришлось отбросить. Например, некоторые слова, которые то ли Элиас, то ли Шрётер употребляли, отличаются такими особенностями, которые я назвал «лексическим скачком в сторону». Когда для обозначения некоторых понятий, в том числе ключевых понятий, последовательно использованы не самые употребительные слова, а их синонимы. То есть глагол, допустим, «чувствовать» чаще всего передавался уже в XX веке, когда писал Элиас, глаголом fühlen, и существуют однокоренные ему существительные: Fühlen, Befühlen и так далее, и так далее. В этой книге чаще всего, почти везде, употреблены гораздо менее часто встречающиеся неполные синонимы: глагол empfinden, существительное Empfindung…
Т. А.: Это как бы «испытывать», да?
К. Л.: «Воспринимать», «ощущать». Или, там, «восприятие», «ощущение». И да, «испытывать какие-то воздействия». Я решил, что не стоит пытаться в русском языке тоже последовательно заменять «чувствовать» на «воспринимать» или, там, «чувство» на «восприятие». Потому что иначе текст был бы просто непонятен. Диковато бы выглядело, и мне кажется, что мысль бы была просто неясна.
Т. А.: Я, по-моему, говорил Михаилу, что первое чтение перевода — у меня было ощущение, что есть какой-то сдвиг семантический все равно. То есть все-таки что-то от этого есть.
К. Л.: Что-то сохранилось, да, от этих скачков. Какие-то, может быть, наиболее далекие скачки, так сказать, я убрал, а многие остались. Там есть и другие примеры, касающиеся, допустим, слова «любовь», там, «благосклонность», где тоже вместо слова Liebe используется слово Zuneigung, которое означает вот «душевное благорасположение» или «благосклонность». Оно в этой книге практически встречается в тех контекстах, где мы говорим именно о любви. И так далее. Есть какие-то слова, которые характерны для некоторых диалектов, например, для австрийского обихода. Если Элиас работал с письмами, с документами того времени, то, значит, частично они переняты оттуда. И тоже у меня не было ощущения, что надо это как-то сохранить для русского читателя, потому что русскому читателю на русском языке то или другое слово не покажется диалектным. Мы не можем передать особенности южнонемецкого словоупотребления с помощью средств русского языка. И, конечно, во многом этот текст пришлось редактировать на предмет каких-то особенностей, связанных уже с языком науки. В принципе, немецкий научный язык сильно отличается от русского научного языка — и синтаксически, и фразеологически, стилистически, и какие-то вещи, которые любой русский редактор вычеркнул бы, в немецком как раз… Ну, там, многочисленные повторы слов, однокоренных слов или вообще одних и тех же слов в одном предложении или в абзаце, прекрасно выглядят в немецком научном тексте и неприемлемы в русском. Что еще можно сказать о языке и о переводческих проблемах, которые встретились на моем пути, это, конечно, язык самого Моцарта. Поскольку в книге использованы цитаты из его писем и письма эти в большинстве своем опубликованы, в том числе на русском языке, у меня в силу исторической подготовки существует большой пиетет перед источником. Я не считаю возможным редактировать текст исторического источника. И уж тем более я не считаю возможным редактировать тот текст, который был уже опубликован. Поэтому многие читатели, возможно, встретят в этой книге слова, которые их заставят покраснеть или возмутиться, потому что Вольфганг Амадей Моцарт, как пишет и объясняет почти каждый публикатор его писем или автор книг о нем, совершенно не стеснялся крепких выражений. Элиас объясняет это его принадлежностью к буржуазной культуре, в отличие от дворянской. Кто-то объясняет это в принципе особенностями нравов того времени, XVIII столетия. Кто-то объясняет это особенностями психологии данного конкретного субъекта. Но так или иначе всякого рода обсценная лексика в его письмах встречается в изобилии, и в этой книге тоже какие-то слова попадаются. Я, затаив дыхание, ждал, что скажет издательский редактор, увидев этот текст, но, насколько я понимаю, все прошло совершенно спокойно, и теперь мы, затаив дыхание, ждем возмущенных откликов от читателей.
Т. А.: Ну, это, мне кажется, ты делаешь рекламу такую.
К. Л.: Да.
Т. А.: Осторожную.
К. Л.: Да. Вот, пожалуй, то, что я мог бы сказать о самых общих каких-то переводческих проблемах и решениях, которые встретились в этой работе.
Т. А.: Спасибо.
М. В.: Ну, кстати, я вот думаю, что здесь логично сделать переход к очень простому тезису: что эта книга Элиаса, она обладает, кроме прочего, тем достоинством, что переворачивает расхожие клише о Моцарте, заставляет нас посмотреть на эту фигуру совершенно иначе. И здесь, может быть, я позволю себе пару ремарок. Интересно, и в этом смысле для меня, конечно, труд Кирилла вдвойне ценен еще и потому, что книга, она небольшая по объему, она составлена из нескольких фрагментов, в которых Элиас или Шрётер, тут непонятно, повторяет схожие тезисы. И это создает впечатление некоторого однообразия, которое, может быть, на самом деле не так плохо, потому что он один и тот же аргумент или несколько групп аргументов, несколько аргументов рассматривает с разных точек зрения, но одни и те же тезисы, они релевантны для более или менее всех фрагментов книги, и это, конечно, я думаю, что особенно тоже не очень здесь просто, потому что повторять порой те же самые фразы — как это делать? Для переводчика в этом смысле, мне кажется, Кирилл блестяще совершенно справился с этой сложной задачей.
Надо сказать, что, во-первых, перед нами Моцарт не музыкант. То есть в каком смысле? В книге практически вообще нет разговора о музыке как таковой. Что для нас все-таки, согласитесь, довольно странно. Мы привыкли к тому, что все-таки, когда речь заходит о Моцарте, прежде всего вспоминаются его гениальные произведения, а не даже его личность, несмотря на фильм Формана «Амадей» замечательный, который, кстати, такое впечатление, что просто снят по Элиасу. Я вот не помню хронологии…
Т. А.: Ну, они, наверное, одновременно…
М. В.: Одновременно.
Т. А.: Мне кажется, это 1990-е. То есть вряд ли он на нее опирался.
М. В.: Да. Да-да-да. Едва ли. Нет-нет, разумеется, едва ли. Но действительно там трактовки очень близкие. Любопытно, мне кажется, что речь вообще не заходит о музыке. Речь идет о том, какие жанры музыкальные были в почете в придворной культуре. Да, они упоминаются. Но сама музыка не становится предметом анализа. Наоборот. Элиас подчеркивает, что его интересует прежде всего Моцарт — социальный агент, если угодно. То есть человек, который определенным образом ведет себя в обществе — в обществе определенного типа. Вот это, так сказать, это важно. Об одной особенности вот этого нового взгляда на Моцарта Кирилл уже сказал. Это невероятная склонность великого гения, имя которого мы часто произносим с придыханием, к обсценной лексике, извините, его любовь страшная к заднице, значит, которую он склонял и которую он, так сказать, говоря научным языком… Любовь к анальным шуткам, которые очень частотны в его письмах. Да, и в этом смысле его письма дают совершенно невообразимую местами картину нравов как Моцарта, так и окружающей его реальности. А с другой стороны, это поразительный совершенно тезис, но страшно продуктивный, интересный, о том, что Моцарт на самом деле был аутсайдером. Еще раз, мы привыкли воспринимать Моцарта сквозь призму такой популярной культуры XIX и XX, уже XXI веков, в которой, разумеется, Моцарт находится на самом, так сказать, высоком месте в иерархии мировых композиторов за все время существования классической музыки. Моцарт — абсолютный гений. Трудно себе представить, что Моцарт не востребован, что его гений не приносит ему доход. Как раз Элиас пишет о том, что фестивали в Зальцбурге, скажем, связанные с именем Моцарта, стали давно коммерческим предприятием, приносящим колоссальные деньги. Колоссальные. И Элиас рисует совершенно другую картину: Моцарт — придворный аутсайдер. Моцарт, который, соответственно, для Элиаса — отчасти об этом уже говорилось — Моцарт ориентирован на буржуазные ценности, не вписывается в придворную жизнь и, более того, не хочет этого делать, потому что Моцарт знает себе цену, знает цену своему гению. Но, поскольку рынка нет, о чем Тимур говорил… Да, и там, кстати, интереснейшая параллель с Бетховеном. То есть тезис очень простой, что если б Моцарт прожил еще десять лет, то его ждал бы оглушительный успех…
Т. А.: Да, он мог бы продавать ноты. Нотные записи.
М. В.: Именно. И все те проблемы, которые в итоге, как считает Элиас, свели в могилу Моцарта, — их бы просто не существовало. Между тем как Моцарт оказывается в ситуации, когда он должен подчиняться строгим правилам придворного сообщества. Что это значит? Это значит, что нужно сочинять музыку определенного типа — ту, которая нравится не Моцарту, а его заказчикам. Работать в определенных жанрах. Выполнять придворные должности. То есть что это значит? Это здесь очевидно. Это не то что бы Моцарт сидит у себя в кабинете и творит гениальную музыку. Нет, он должен являться при дворе, участвовать в ритуалах, в общем и целом, выказывать собственное подчиненное положение, собственную встроенность в придворную иерархию, в которой музыкант занимает довольно низкое место. И это не идет ни в какое сравнение с мнением Моцарта о самом себе, потому что он хорошо — еще раз — знает себе цену. И Элиас рисует нам жизнь Моцарта как постоянный бунт против разных властных инстанций, против зальцбургских властей, против придворного общества и в конце концов — даже против отца, Леопольда Моцарта, который как раз был частью придворного общества и органично, в общем-то, так сказать, в нем себя находил. И вот это, конечно, совершенно поразительно — как Элиас рисует Моцарта, которого мы, по большому счету, не знали. Еще раз, мы воспринимаем Моцарта как гения всех времен и народов, который, так сказать, ни с чем не сравнимый и чье место в иерархии ценностей невероятно высоко. Меж тем как только мы смотрим на Моцарта с точки зрения исторической социологии, мы обнаруживаем вместе с Элиасом, что ситуация была радикально другой, что он был — еще раз — аутсайдером. Он не находил себе места в этой придворной иерархии, не хотел подчиняться, бунтовал против нее, и этот бунт поразительным образом привел не к изменению конвенций, как социальных, связанных с музыкой или чисто музыкальных, а к поражению Моцарта.
Т. А.: Кирилл, пожалуйста.
К. Л.: Это я не как переводчик, а как, так сказать, наблюдатель событий…
Т. А.: И читатель.
К. Л.: Хотел сказать, что действительно как бы нам привычно думать о композиторе вообще и о Моцарте в частности как о таком служителе муз. Он не был служителем муз. Он был служителем архиепископа. Он имел статус слуги при дворе и служить должен был не музам и даже не Всевышнему, как Бах, а служить он должен был конкретному человеку, более высокопоставленному в социальной иерархии, который его кормил. И большинство терзаний Моцарта, которые отразились в его письмах, допустим, они связаны вовсе не с тем, как ему угодить музам, а с тем, как ему быть в отношениях с теми или иными подателями вполне земных благ, с теми, кто своей благосклонностью обеспечивал ему просто выживание, просто прокорм.
Т. А.: Ну вот у меня в этом смысле тоже, так сказать, был такой необычный в данном случае акцент, который я сделаю, — это на том, что вот эта трагедия Моцарта-гения, которую, может быть, уже в рецепции через Пушкина и через какие-то другие образы, может быть, отчасти я для себя идентифицировал как некоторую часть, так сказать, самой судьбы гения, что трагедия в нее встроена. Элиас говорит, что трагедия Моцарта во многом есть просто социальная трагедия и социальное непопадание. Ну и, в общем, наверное, с ним такой, ну, на уровне, так сказать, встречных контрпримеров, наверно, ну, условный Пикассо или Дали действительно демонстрировали, что люди такого класса, такого типа эксцентричности, уровня эксцентричности и творческого, так сказать, такого гения, может быть, по-своему жили сложную жизнь и отчасти трагическую, но совсем не обязательна, так сказать, вот эта трагедия, которая с ним случилась, именно такая катастрофа личная, социальная, то есть когда он умирает, причем в бедности, и ощущает, с чего начинает книгу Элиас, ощущает себя никчемным — как бы он не достиг того, к чему стремился, то есть он именно как вот потерпел неудачу социальную, — то это связано с социальными условиями, и в этом смысле это действительно социология гения. То есть социология гения, то есть он показывает эту часть. И здесь получается, что трагедию можно отделить… Во всяком случае, она дальше становится, наверно, и, безусловно, становится таким источником уже для творческой рефлексии и для творчества. В частности, в «Реквиеме», наверно, каких-то высших форм достигает, но при этом сама по себе может быть интерпретирована именно немузыкальная часть, о том, что сказал Михаил, немузыкальная часть этой истории, она оказывается действительно вполне социологической.
М. В.: Ну, кстати, я бы сказал, что, кроме прочего, Элиас дает нам прекрасное описание того, что означает гений, в таких терминах психологических. Как раз этот вопрос страшно интересует Элиаса. Надо сказать, кстати, что именно эти фрагменты книги вызывают наибольшую критику.
Т. А.: Да, но мне она чрезвычайно понравилась. Эта модель мне показалась чрезвычайно эвристической. Она, наверное, как раз здесь не является предметом доказательства, в отличие от социологической части. Это скорее… Даже не знаю. Трудно сказать, что это. Ну это вот такое, значит, такая модель. Просто спекулятивная модель, но она как минимум чрезвычайно изящна и интересна. Можно, наверно, попробовать рассказать ее.
М. В.: Давай расскажем, да, что это за модель. Мне кажется… Да, значит, модель эта, если в двух словах, заключается в следующем. Гений опять-таки — это не человек, который, так сказать, природно… Вернее так. Гений — это человек, который не только природно одарен… Собственно, природная одаренность — это только одна из составляющих гения. Вопрос в том, что он способен эту природную стихийную силу контролировать и, как пишет, собственно, Элиас, сублимировать. Что это означает? Это означает, что содержание музыки должно быть облечено в некоторую хорошо понятную форму. И в этом смысле Моцарт характерен, собственно, сочетанием двух важных вещей: мощнейшей природной фантазии, которая ему… Да, там описываются примеры, когда он сидит за столом, разговаривает с собеседниками своими — и вдруг неожиданно ему в процессе разговора приходит какая-то идея, идея музыкальная, разумеется. Он встает, идет в соседнюю комнату, облекает ее в ноты и возвращается, и продолжает разговор. То есть что это значит? Это значит, что вот эту свою фантазию он очень быстро способен облекать в то, что мы связываем с ремеслом, с технической подготовленностью, с навыками музыканта. Именно вот это сочетание и выделяет гения, а не только, так сказать, его вот эта способность природно творить. Нет никакого природного творения, а есть сложный процесс трансформации, изменения природных импульсов в рациональные знаки, в данном случае в ноты. И это, так сказать…
Т. А.: То есть это два потока. То есть есть вот эти жанровые структуры и техническое мастерство…
М. В.: Да. Только сочетание. То есть только сочетание этих двух вещей дает результат. И, кстати, в этом смысле Элиас говорит о том, что неуравновешенность Моцарта психологическая, она связана с тем, что, собственно, подобного рода трансформацию он умел, по большому счету, производить только в музыке. Это, по-моему, тоже очень сильный и интересный тезис.
Т. А.: То есть ты имеешь в виду, что у него этот навык самоконтроля и мастерства только в одной сфере.
М. В.: Именно. Да, потому что в социальной сфере ему это не удавалось. Вот это действительно, по-моему, довольно замечательное наблюдение. И, собственно, это его в конечном счете и погубило, потому что, будучи гением именно в том смысле, который мы только что описали, он не был способен устроиться в обществе, в котором он жил.
К. Л.: Да, у него была музыкальная фантазия, как говорит Элиас, неоднократно используя это словосочетание «музыкальная фантазия». То есть ему приходили в голову самые разные вещи. Он мог их себе представить. Он мог их внутренне услышать и так далее. И у него абсолютно не было, ну, такой как бы социальной фантазии, которая позволяла бы ему представлять себе, чего от него ожидает тот или иной податель материальных благ, как понравиться кому-то или что-то в этом роде.
Т. А.: Ну вот, и там еще третий элемент есть, в этой модели гения. То есть, получается, есть вот это мастерство и канон, техническое мастерство, которое задает как раз эта сторона дисциплины, и вот это вот общий процесс цивилизации и дисциплины, он тут как бы зашит, а вторая часть — вот эта спонтанность, но которая как бы женится вместе с каноном и дает какие-то произведения, но есть третья инстанция все-таки еще. Я про нее упомянул, но это самое… Может быть, Кирилл, не знаю, просто скажет, как это по-немецки. Вот эта вот «художественная совесть», то есть есть еще и критик, который отбирает вот эти результаты этих экспериментов… Он еще слово «эксперименты» же употребляет. Эксперименты, которые вот эту фантазию облекают в какую-то структурированную форму, но там, грубо говоря, стоит, так сказать, такой строгий судья… По-моему, и «судья» он тоже говорит. Который вот говорит: «Это хорошо, а это нехорошо». И вот здесь важно, на кого может опираться художник. И что вот художник опирается на свое собственное какое-то суждение. Ну опять-таки, там, какой-то массовый художник, может быть, опирался бы на вкус как бы широкой публики. Значит, придворный художник, очевидно, опирается на вкус и канон, ну, с одной стороны, на канон, с другой стороны, на вкус конкретного патрона. А здесь ты должен сам принять это решение и выбрать. Ты опираешься вот на эту «художественную совесть». Мне показалось, какое-то неожиданное такое словосочетание. Если можно, Кирилл, скажи, как оно по-немецки и есть ли какие-нибудь альтернативные варианты, по-русски как можно было бы это перевести, эту инстанцию обозначить?
К. Л.: Да. Это то самое слово Gewissen, которое используется применительно к совести как моральному сознанию, как такому внутреннему судье в человеке, который говорит ему: «Так вести себя хорошо, а так вести себя плохо». Я когда первый раз встретил это слово в немецком тексте, тоже думал, что надо, наверно, будет заменить его каким-нибудь синонимом, который в русском употребительнее в этом контексте, долго думал — «художественное сознание», «художественная способность к суждению».
Т. А.: Ну, сознание. Но все-таки сознание возможно было бы?
К. Л.: Нет. Я потом понял, что невозможно. Что речь идет, конечно, именно о совести в том самом смысле, как вот что нехорошо воровать серебряные ложечки.
Т. А.: И ты чувствуешь.
К. Л.: Да. Это внутреннее такое, не всегда отрефлексированное, часто не вербализуемое такое ощущение, что вот так нельзя. Вот эту последовательность нот, так сказать, в это место…
Т. А.: То есть это негативный такой судья. Да?
К. Л.: Да. Так нельзя. Или наоборот: а вот здесь надо сделать так-то. Вот меня, так сказать, моя внутренняя совесть побуждает поступить так-то. И этот поступок выражается в том, что я ставлю ноты в такой последовательности. И я оставил это слово «совесть». И тут вот надо вообще сказать, что Элиас — очень для него, на мой взгляд, характерно использование вот, как я уже говорил, слов-синонимов, менее употребительных вместо более употребительных, а с другой стороны, использование таких слов, которые у кого-то, может быть, имеют терминологическое значение, в своих значениях. Допустим, ему вот понадобилось понятие «музыкальная совесть», и он берет слово «совесть» из морального лексикона и использует для своих нужд. Ему понадобилось, допустим, слово «сублимация» для каких-то своих представлений, и он, совершенно не заботясь о том, как точно терминологически выглядит это понятие во фрейдизме, в классическом психоанализе, берет его и использует для своих нужд, так, что, я думаю, многие психоаналитики в то время совершенно бы этого не одобрили. Конечно, тут сыграла свою роль его, так сказать, научная социализация, его опыт работы во Франкфурте, когда рядом с ним работали в Институте социальных исследований такие люди, как Хоркхаймер, Адорно, Эрих Фромм и многие другие, которые тоже пытались применять многие психоаналитические концепции, заимствованные от Фрейда, к социальным исследованиям, и делали они это еще в 1930-е годы, еще в довоенное время и в послевоенное время, и тоже, с точки зрения классического психоанализа, многое в этом вызывало бы возражения и споры, но они это делали вот в социологии, решив, что им это надо и они имеют право адаптировать психоаналитический понятийный аппарат к своей сфере.
Т. А.: Прошу прощения. Если можно, в эту сторону просто сделать шаг. Как раз вот сублимация в самом широком смысле в психоанализе — тогда это про что? Потому что мы употребили слово, по-моему, не упоминали про его источник. Здесь мы сказали, что это сублимация вот этой вот фантазии, было слово «фантазия», фантазии в структуру, творческой энергии в структуру, в структурированные жанровые формы и техническое мастерство. А в чем, наверно, главное тогда отличие в психоанализе будет? Может быть, не вдаваясь в различия между разными школами, в самом базовом смысле.
К. Л.: Он отсылает к Фрейду в этом плане и говорит, что сублимация — это такой способ обращения со своим либидо, то есть с энергией, идущей от сексуальности человеческой, которая позволяет направить эту энергию в социально приемлемую сторону, и часто это выражается в каких-то творческих поступках, когда человек создает некие произведения, будь то музыку или поэзию, или живопись, танец, все что угодно, и в принципе это наблюдается у любого индивида, но это вещи очень такие индивидуально-психологические. То есть, насколько мне известно, Фрейд не говорит никогда о сублимации как о социальном феномене. Вообще психоанализ — это вещь, которая описывает как бы всех людей, хотя на самом деле исследования показали, что, конечно, Фрейд разрабатывал ее на вполне конкретном, так сказать, человеческом материале венского еврейского буржуазного круга своих, так сказать, пациентов и с их характерными социально-культурными особенностями. В чистом виде фрейдизм невозможно перенести на, допустим, японское или какое-нибудь, там, африканское общество. Ну так вот, Фрейд все-таки всегда, работая с конкретным человеком, имел в виду то, что происходит внутри данной конкретной личности и ее сознания, подсознания и так далее, и так далее.
Элиас, как и некоторые другие в то время, совершенно ничтоже сумняшеся переносит это дело на социальные условия, на социальное поведение, на типы социальные и прочее, и прочее, то есть от сугубо внутренних индивидуальных каких-то вещей, которыми занимается, собственно, психоанализ, переносит это на общественные явления, раз, а два — они делают то, чего психоаналитик не делает. Когда он работает с конкретным индивидом, он слушает его, задает вопросы, то есть все происходит в личном общении в режиме реального времени, тогда как в историко-культурных или историко-психологических исследованиях этот понятийный аппарат прилагается к людям далекого прошлого, которых мы не можем спросить, переспросить. Мы не слышим, так сказать, их ответов на конкретные наши вопросы. Мы только имеем дело с письменными свидетельствами, оставшимися от них, в которые мы вот привносим некоторые свои интерпретации, не имея возможности узнать, насколько это все адекватно. И, конечно, тут интерпретационная свобода огромная. В этом, конечно, один из моментов, которые очень легко критиковать с позиций, собственно, психоанализа. Когда этот терминологический аппарат таким образом используется, это не соответствует тем конвенциям, которые в психоанализе существуют. И, с другой стороны, конечно, и в исторической науке историческую психологию, исторический психоанализ критиковали в том числе именно за это, что, если мы пишем психоисторию, будь то биография Лютера или биография Моцарта, или что-нибудь еще, мы можем привнести туда некие свои интерпретации, вдохновленные, допустим, психоаналитической теорией Фрейда или какой-то еще, и нам, так сказать, никто не даст по рукам. Мы не можем рассчитывать на то, что, ну, как бы материал, так сказать, радикально этому воспротивится и что сам Лютер или Моцарт встанет из могилы и как-то нам ответит, что нет, вы неправильно меня поняли, или нет, я этого не говорил, нет, вы там… Это была, собственно, одна из причин, по которым психоистория и исторический психоанализ через какое-то время, довольно быстро, вышли из моды и в настоящее время уже не практикуются.
М. В.: Я хотел коротко сказать, что, мне кажется, как раз пример Элиаса, он тем интересен, что… Вот тут я хотел бы сверить собственный читательский опыт с вашим. Фрагменты, о которых сейчас только что Кирилл рассказывал, кажется, чрезвычайно убедительны. Фрагменты, посвященные, действительно, не всегда, может быть, корректным психоаналитическим выводам, выкладкам — их можно, в общем, довольно легко изъять из этой книги, и останется социология гения, то есть Моцарт в среде, которая от критики психоаналитических заключений Элиаса никак не страдает, по большому счету. Вот не знаю, как вам кажется, но мне представляется, что, по большому счету, как раз интересен Элиас тем, что он, так сказать, именно в этой книге… Существует парадоксальным образом несколько книг, которые искусственно соединены в одну, впрочем, небольшую. Между тем как, конечно, в «О процессе цивилизации», мне представляется, мне кажется, что там есть тоже психологические фрагменты, они там, может быть, более даже убедительны. Вот что вы думаете?
К. Л.: Я немножко с другой стороны, если можно, выскажусь на эту тему. А именно, я согласен, что, если изъять тот псевдопсихоаналитический подход, который Элиас там применяет, ну, как бы подвергнуть его вот такой критике с позиций психоанализа, которая потребует его дезавуации и изъятия, значит, вот остается социология. Но если начать критиковать эту книгу с позиций социологии, то обнаружится все то же самое. Любому социологу, я думаю, не составило бы труда показать, что работа Элиаса не является, собственно, социологической, что он ничего не исследует теми средствами, которыми исследует что-то социология. И поэтому мы можем, допустим, переквалифицировать, исходя из сегодняшней номенклатуры, его исследование из социологического, допустим, в социально-историческое.
Т. А.: Ну, это, конечно, социально-историческое, да, по-нынешнему.
К. Л.: И тогда оно сохранит вполне свою ценность. Ну как бы не надо называть это так, не надо называть это сяк, и тогда оно вот в своей уникальности будет по-прежнему достаточно…
Т. А.: Ну так же, как произведения Макса Вебера, очевидно, не являются социологическими ни в каком разумном смысле в современном базовом понимании, и, конечно, это классика социологии. И, кстати, тоже недавно переведенный гораздо более монументальный по объему труд тоже был недописан автором. То есть, видимо, немецкий автор «Хозяйства и общества», четыре тома…
М. В.: «Хозяйство и общество» имеется в виду.
Т. А.: «Хозяйство и общество», да, четыре тома.
К. Л.: Повторно переведенный.
Т. А.: Нет, он не повторно, он полностью переведен впервые. Там были фрагменты небольшие его переведены раньше. То есть, так сказать, все эти страницы… По-моему, больше десяти лет они их переводили.
М. В.: Можно короткую ремарку? Не-не, Кирилл, давай. Что интересно?
К. Л.: Ну, я не знаю, может быть, это в сторону уведет. Интересно, что при всей фундаментальности подхода Вебера, когда он вводит основные социологические понятия, когда он очень подробно излагает все свои социологические концепции, это, с одной стороны, принято цитировать, это как бы классика, это фундамент и так далее, и так далее, с другой стороны, последовательных веберианцев ни среди историков, ни среди социологов сегодня, насколько я знаю, нет. Точно так же и Элиас при всей своей знаменитости и как бы интересности, которую никто не отрицает, не имеет последователей ни среди историков, ни среди социологов сегодняшнего дня, если я правильно понимаю.
М. В.: Ну вот тут я бы осторожно не согласился. И довольно любопытная ситуация. Потому что историки придворной культуры уже, наверно, лет тридцать, в общем-то, только тем и занимаются, что критикуют Элиаса — по самым разным поводам, по самым разным причинам. Но между тем — я в свое время читал как раз подряд эту критику — между тем на каждом витке полемики становится очевидно одно — что они все находятся все равно внутри его концепции. Вот это поразительная совершенно штука. То есть интересно, что критикуются, и причем порой очень основательно, детали, выбор источников, выбор материала, география материала и так далее. Но между тем, критикуя Элиаса, его оппоненты всё более убеждают читателя, ну, меня, во всяком случае, в том, что они совершенно идут в этом фарватере и действуют в рамках того же самого метода. Другое дело, что они вводят разные новые детали, новые исследовательские практики и так далее. Но…
Т. А.: Не, ну это в буквальном смысле парадигма. То есть это парадигма, понятийный аппарат…
М. В.: Да, вот ты очень хорошее слово… Парадигма остается той же самой. И мне кажется, в этом смысле… Я убежден абсолютно, что как раз чтение Норберта Элиаса — чрезвычайно полезное дело. Есть работы, с которыми можно бесконечно не соглашаться, критиковать и прочее, но они настолько продуктивны, что они побуждают нас самих думать, ставить междисциплинарные вопросы, пытаться соотнести сферы знания, которые обычно мы не соотносим, но синтез которых может произвести грандиозные научные результаты. И мне кажется, что книга о Моцарте — как раз прекрасное тому доказательство. А она может быть… Помните, как Карамзин называл Петербург? Там, «блестящая ошибка Петра». Вот это, если угодно… Мы говорили тоже сегодня и об ошибках Элиаса, но это блестящие ошибки, которые при всей, может быть, слабости отдельных, так сказать, выводов исследователя, они не компрометируют парадигму, а наоборот, заставляют нас все глубже и глубже размышлять о ее смысле и о ее продуктивности и важности для наших собственных исследований.
К. Л.: Да, конечно. В этом она сродни, допустим, работам Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти», «Детство при Старом порядке», которые кто только не критиковал и не критикует, но они дали мощнейший импульс развитию нескольких направлений исследований, и в этом смысле не утратили своего значения. Или Бахтин с его теорией карнавала, которую тоже кто только не критиковал, но он велик именно тем, что он заложил основу вот этого длинного движения, основанного теперь и продолжаемого, может быть, путем критики Бахтина и так далее. Еще нескольких можно, я думаю, назвать авторов, которые вот так вот, ну, кто-то скажет, в снятом виде, кто-то скажет, в виде такой боксерской груши, с которой, так сказать, спаррингуют все подряд, продолжают иметь значение в науке.
М. В.: Ну что, мне кажется, что, Тимур, Кирилл, мне кажется, что…
Т. А.: Мне кажется, что это прекрасный эпилог. Так, Кирилл, большое спасибо. По-моему, здорово.
К. Л.: Спасибо.